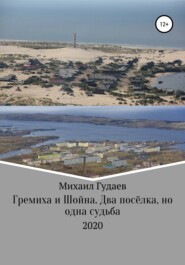По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Шойна в 1941 – 1945 годах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Уже в июле начали из тундры увозить мужчин вначале в Шойну, затем на пароходе в Архангельск, а там – кого куда. Уезжали на оленьих упряжках наши отцы в сопровождении наших матерей. Лето было жаркое, комары, мошкара, овода. С самого Тонкого Носа до Шойны километров двести нужно проехать. Казалось, жизнь в стойбищах замерла, даже дети как-то попритихли в ожидании родителей из Шойны. Наконец, дней через 10-15 показывалась вереница упряжек. Дети прыгали от радости, бежали навстречу настороженные. Если мама вела упряжку отца и пустые нарты, значит, его (отца) взяли на войну. Были счастливы семьи, жены, матери, когда хозяин по какой-либо причине возвращался обратно. Учитывались при этом возраст, здоровье, а кому-то давали бронь. Казалось, постепенно осиротела тундра. Остались пасти тысячные стада женщины, старики, подростки, и притом не только мальчики, но и девочки. Каждый год во время летних каникул трудились дети вместе с взрослыми: рыбачили, на пару с женщинами ходили на ночное дежурство в стадо.
Весной собирали целыми мешками шерсть с линяющих оленей и отправляли, а куда и для чего, мы тогда не знали.
Доставали личинки оводов со спин оленей. Был план – тысяча личинок. Надо сказать, занятие это не из приятных: во-первых, оленю больно, он брыкается, не дается. Если лежит на земле со связанными ногами, бьется, дышит тяжело, будто стонет, во-вторых, страшно и противно выдавливать из-под шкуры оленя через маленькую дырочку в шкуре живого, шершавого, круглого угря размером с небольшой грецкий орех.
При выполнении и перевыполнении плана колхоз начислял трудодни. Нередко собирали и отправляли посылки на фронт: шили тобаки, шапки, рукавицы и даже малицы. Вероятно, их отправляли на Карельский фронт.
Рядом со взрослыми женщинами занимались шитьем и девочки, они были опорой и главными помощницами матерей. Иногда все хозяйство держалось на подростках: если мама рыбачила, дежурила ночью в стаде, вся работа в чуме ложилась на плечи девочки-подростки: наколоть дров, развести костер, сварить и накормить младших, уложить спать, высушить, отремонтировать одежду, выстирать, наносить воды и т. д.
В тундре не было голода в полном, страшном смысле этого слова. Если человек неленивый, мог обеспечить семью рыбой, мясом, летом – ягодами, грибами. Не хватало хлеба, муки, сахара, чая… Что делать? Война, обходились без них. Правда, очень болезненно воспринималось женщинами-ненками отсутствие заварки – настоящего чая. Но где его взять? Готовили травяные чаи: сушили цветки багульника, красно-коричневые цветки сабельника, а под осень – уже сухие коричневые листья иван-чая, напоминающие по запаху и виду настоящий грузинский чай. Таким образом, находили выход. На зиму заготовлялись целые мешочки трав, ими также и лечились.
В конце августа нас на оленьих упряжках увозили в школу, ехали долго.
Начиналась осень, пора туманов, измороси, ливней. С самого Канина Носа добирались до Шойны за семь – десять дней.
Жизнь и учеба в Канинской школе в 1941-1945 годы.
Война чувствовалась во всем, давала о себе знать везде. Уже осенью 1941 года на пароходе «Канин» увозили на войну мужчин, в том числе и оленеводов. Вся Шойна провожала их, картина бывала удручающей: кто-то, подвыпивши, играл на гармошке прощальную песню на слова Демьяна Бедного «Как родная меня мать провожала…», голосили русские женщины, ненецкие стояли около своих мужей молча, следуя примете – плакать при расставании не к добру.
Зимой уезжали мужчины на войну на лошадях. Кто-то ехал, кто-то шел пешком за обозом. В начале войны проводили на фронт нашего директора Анатолия Петровича Анашкина. Казалось, вся Канинская школа плакала, особенно учительницы и ученицы. Мы любили его, называли его «наш отец» – нисява. Нелегко у ненецких детей завоевать такое признание.
В Шойне был погранпост, пограничники с вышки наблюдали за окружающим, за маяком, судами в море. Затем привезли еще много солдат, которые жили в землянках, вырытых ими же под песчаными сопками. В поселке их называли «батареей». Всегда они ходили строем с песней «Мы на бой поедем на тачанке и пулемет с собой возьмем…» Нам, ученикам, нравилось наблюдать, как красиво и слаженно они маршировали, а мальчишки бегали за ними. Шойна тоже перестраивалась на военный лад. Посреди поселка была установлена сирена, в сопках вырыты бомбоубежища.
Первый раз мы видели, как немецкие самолеты пролетели над Шойной и сбросили много фугасных бомб прямо на сопки, наверное, думали, что это дома, но бомбы не взорвались, а горели на песке, их, я помню, зарывали в песок военные.
Один раз мы только сели обедать, воспитатели раздали по кусочку хлеба, дежурные по столовой начали разносить суп, как, совсем некстати, завыла сирена, все бросились на улицу, едва накинув на себя одежонку, побежали в убежище. Было там полутемно, тесно, поселковые женщины с детьми, с узелками вещей, с подушками, одеялами… Мы не знали, сколько тут будем стоять, прижавшись, друг к другу, как сельди в бочке. Воспитательница сказала: «Выйдем, когда улетят немецкие самолеты».
Впоследствии было немало настоящих и ложных, учебных тревог – мы уже знали, если завыла сирена, надо бежать в убежище. Однажды мы только легли спать, положили пимы сушиться, вдруг тревога, сирена надрывается, быстро оделись сами, одели младших и – бежать в убежище, но… оказывается, была это учебная тревога. Так нас учили к готовности спасаться в любое время суток.
Небольшое отступление – перенесемся на Канинский полуостров.
Немцы летали и над тундрой. Мама рассказывала, как они летом ездили с тетей к морю за дровами. Вдруг видят – летит прямо в их сторону самолет. Хотели они повернуть обратно, но тетя с перепугу дернула вожжу не так, как надо, послушный передовой повел упряжку прямо навстречу снижающемуся самолету, олени бегут что есть силы.
«Немзя» низко-низко пролетел над ними и вскоре скрылся за облаками, оставив в целости двух перепуганных женщин.
А на море, недалеко от полуострова Канин, постоянно слышались какие-то взрывы. Надо сказать, эхо большой войны долетало и до тундры.
Что запомнилось из жизни в интернате в военное время, так это холод зимой, темень и постоянное желание есть. Тогда всем жилось плохо, так, наверное, было во всех интернатах. Печки топили дровами, они были горячими, но все равно в классах и комнатах был виден пар дыхания. Всегда ходили в паницах и малицах, пимах, только в столовую не пускали в одежде. Школу дровами обеспечивали родители, стояли около интерната целые штабеля бревен, распиленных и расколотых дров, сложенных в поленницы. Родители оставляли и мясо на зиму, но мы никогда досыта не ели.
Зимой учились при ламповом свете со стеклами, сделанными из пол-литровых стеклянных банок. А в интернате вечером зажигали лампы – коптилки без стекол, поэтому утром под носами было черно от копоти, как у трубочиста. Смеялись друг над другом и над собой, а назавтра было то же самое.
Если в коридоре и в уборной было темно, ходили с зажженной лучиной. Удивительно, как мы тогда еще пожаров не делали. Спросите, а где же были ваши воспитатели?
Коллектив учителей и воспитателей был чисто женский. После ухода на войну Анатолия Петровича приехала директором молодая женщина Елизавета Петровна Полежаева с двумя маленькими девочками. Конечно, ей трудно было справиться с таким «хозяйством», как школа-интернат для детей оленеводов, где требовался опыт работы в таких учреждениях и особый подход к детям, оторванным от родителей почти на год. Мы были предоставлены сами себе. Если при Анатолии Петровиче были четкий режим и дисциплина, после него все пошло по-другому.
Молодые воспитательницы, учительницы не могли оставаться в стороне от жизни поселка, где так много было военных, пограничников, что, несомненно, лучше, приятнее, чем возиться с интернатскими, порой такими непослушными детьми.
Жизнь в интернате в годы войны была проверкой на выживание.
Полуголодное детство, разные болезни, вплоть до цинги, брюшного тифа, чесотки – постоянного бича в интернате, мы заражались друг от друга. Малицы, паницы, пимы носили, не снимая, ночью укрывались ими. Вроде и печи топили так, что были горячими, техничка трубу закрывала, когда еще угли горели. На наши замечания и просьбы подождать, так как можно угореть, она отвечала: «Да ладно, ничего с вами не случится».
А мы действительно угорали до тошноты, поэтому, как только она закрывала трубы, выходили на улицу, а кто уже угорел, сидел на крыльце интерната.
В годы войны, бывало, и умирали дети, кто по болезни, а кто и по недосмотру воспитателей.
Мальчик Хыйда пришел зимой из бани босиком, не смог найти свои пимы, то ли кто украл, то ли ребята спрятали. Зима тогда была холодной, морозы сильные, а баня – далеко от интерната. Мальчику было лет восемь-девять, он, может, и говорить-то по-русски не умел, не знал, как сказать.
Мы с девочками сидим в комнате и вдруг слышим: кто-то в коридоре беспрерывно кашляет грубым-грубым голосом, будто через железную трубу, плачет, поморозил ноги. Его сразу положили в больницу, откуда он уже не вышел… Воспаление легких!
Что поделать? Война… она все спишет. Это не единственный случай. Кто-то может сказать, что я сгущаю краски, что всем было тогда трудно, да мало ли в войну умирало людей, детей в том числе, что не стоит об этом вспоминать.
Сейчас, по истечении времени, когда начинаю ворошить в памяти те годы, прихожу к мысли: а надо ли было в годы войны собирать детей оленеводов в интернаты?
Пусть бы жили в тундре и помогали своим матерям, тем более отцы у большинства были на фронте. Пасли бы оленей, ловили рыбу, охотились, таким образом, помогали бы фронту не только летом, но и круглый год. В 1944 году я целую зиму работала в охотничьей загонной бригаде, получала пай-трудодни наравне со взрослыми, были и другие подростки. В семье среди родных трудности переносились гораздо легче, нежели в интернате. Но надо было учиться. А как мы завидовали нашим товарищам, кого по болезни отправляли в тундру.
В годы войны в школе не было ни праздников, ни каникул, будто это помогало фронту. Как писал нам с войны наш директор Анатолий Петрович: «…учитесь хорошо, каждая ваша отличная оценка – удар по фашистам…» Конечно, мало кто понимал настоящий смысл этих напутствий, этой философии. Верили-не верили, но самое главное – это слова солдата с войны, значит, правда. Старались учиться в любых условиях, хотя не хватало книг, настоящих тетрадей, зимой замерзали чернила и т.д.
Однажды учитель математики, недавно вернувшийся с фронта, принес к нам в класс настоящие, гладкие /как тогда говорили/ тетради. Мы с подругой на радостях нечаянно поставили кляксы на белом, блестящем листе тетради, испугались и расстроились. Учитель был очень строгим, рассердился и наказал нас, закрыв в классе во время обеда. Это было самое жестокое наказание, потому что в годы войны в интернате всегда хотели есть. Ложились спать, думая о завтраке, затем считали часы до обеда, а после уроков надоедали воспитателям вопросом, скоро ли будет ужин. И так каждый день, пока весной не уезжали в тундру к родителям.
Питались плохо, в одно время давали 300 граммов хлеба на день: на завтрак – сто граммов, чайная ложка сахарного песку и кружка чаю.
В обед и ужин тоже по сто граммов хлеба. Кто постарше, понимали: война – все так живут. Но младшие всегда были голодные, было им трудно привыкнуть к таким условиям после жизни с родителями в тундре. Помню, когда с обеда выходили старшие братья или сестры, у дверей столовой всегда толпились младшие и клянчили: «Дай корочку хлеба…» – выглядели очень жалкими эти маленькие, худенькие, полуголодные ребятишки. Если б они жили в своей семье, мама всегда нашла бы, что дать ребенку, а в интернате – все одинаковые, всем по норме.
Старшие сестры старались найти выход, чем-то помочь полуголодным малышам, милым своим попрошайкам.
В Шойну привозили эвакуированных с мест, занятых фашистами, они нуждались в теплой обуви, просили у ненок и даже у интернатских девочек продать или сшить меховую обувь. Один раз мы с подругой сшили туфли на заказ и обменяли их на полкирпичика хлеба и банку рыбных консервов. Помню, как блестели глаза моего маленького братишки Лади, когда я его кормила.
Был еще такой случай, который я до сих пор помню до мельчайших подробностей, будто было это вчера. Местная русская женщина заказала нам сшить ей липты. Долго ждать ей не пришлось – пошли мы с подругой к ней с готовым заказом.
Подруга осталась ждать на улице, а я по праву старшей зашла в дом и остановилась у порога, будто загипнотизированная, стояла молча, уставившись на ломящийся от разной снеди стол, чего только не было тут: вареная, жареная, печеная еда, хлеб…. У нее были гости: много военных, нарядных женщин. Хозяйка взяла у меня липты, сунула в мешочек несколько кусков хлеба, а я все стояла и смотрела, как шумят и едят ее веселые гости. Тогда она подошла к печке, принесла мне три картофелины в мундире, сунула в мой мешочек с хлебом и тихо прошипела: «Иди, ну иди же…» И почти вытолкнула меня из комнаты.
Было так стыдно и обидно, а подруга никак не могла понять причину моих слез: «Ты чего расстроилась, дала же она немножко хлеба и картошки, пойдем».
Некоторые девочки постарше вязали крючком кружева для подушек, занавесок, целые скатерти по заказам русских женщин за какую-то плату, нянчились в свободное от уроков время. Казалось, у интернатских, кроме уроков, школьных дел, есть еще другая, своя негласная жизнь, свои отношения с поселковыми.
Зимой по воскресеньям ходили на реку Шойну за рыбой. Рыбаки вытряхивали рыбу из рюж и тут же оставляли около Йорданов для заморозки, после этого складывали в мешки и отправляли на фронт. Возили их на лошадях и на оленях. Были няпои оленеводов, которые возили навагу, почту, военных, рыбаков. Тогда ведь самолеты не летали.
Население, кто сам не ловил, в основном, старушки, старички, мы, интернатские, собирали выбракованную мелкую рыбешку: камбалу, сайку, навагу, лом. Приносили все это «богатство» в интернат, варили ее в каких-то кастрюльках, в консервных банках, а кто-то жарил прямо на углях топящейся печки. Ни воспитатели, ни истопница не запрещали нам готовить себе дополнительный обед, относились к этому с пониманием.
Затем ели до тех пор, пока не набивали животы, как барабан. Чтоб как-то облегчить жизнь в интернате, старались сами находить выход. Осенью все вместе собирали ягоды для столовой.
Всего навидались, натерпелись. В одну зиму вся школа болела цингой, некоторые даже ходить не могли, настолько опухали ноги, кровоточили десны, выпадали кусками, если тронешь. Ели хлеб с хвоей, такой горький… Родители далеко, на зимовке в мезенских лесах, поэтому приехать за больными детьми не могли, но, скорее всего, они не знали об этом, не сообщали им. Когда весной приехали родители в Шойну, все еще были больные, неходячие, у нас шатались и выпадали зубы. Это были самые тяжелые 1942 – 1943 годы.
Долгожданная Победа.
Иногда приносили в школу газеты, почту. Долго висела в коридоре «Комсомольская правда» с материалом о подвиге, казни Зои Космодемьянской, были фотографии. Писал по-прежнему на школу Анатолий Петрович, его письма читали и нам на линейке. Он рассказывал, как они бьют фашистов, что скоро их прогонят с нашей земли, и придет победа, а мы чтобы учились хорошо, слушались учителей и воспитателей.
Постепенно женский коллектив учителей стал пополняться учителями-фронтовиками, вернулись с войны учитель математики Краюшкин, физкультурник И.П. Ружников, ГА. Тальков, первый выпускник Канинской школы, вел у нас военное дело.