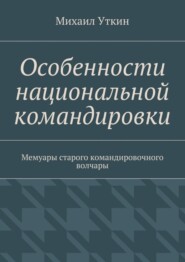По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Особенности национальной командировки. Мемуары старого командировочного волчары. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Машины по этой дороге теперь почти не ходили, поэтому мне просто чудом подвернулся мужичок на убитом «Жигуле», который за вполне божескую цену повёз меня через весь город обратно на «первый» вокзал. Минут на пять позже меня на привокзальную площадь залетела и шакеевская «Мазда». Ерлан ехал обратно в Астану ещё с одним своим давним кентом, тоже Ерланом и, сидя между двумя Ерлами, оставалось только загадывать желания! Мы тут же помчались в Новую Столицу Евразии.
Дорогу на перегоне до Шидертов чинили. Почти половину этого расстояния мы пропылили просто по степи рядом с нею. Пару раз мы даже увидели какие-то бульдозеры, асфальтоукладчики и катки! Не работавшие, правда… Астанинская трасса после шидертинского отворота дороги на Караганду, уже не так сильно убиваемая бесконечными чимкентскими, узбекскими и джамбульскими «арбузными» «КамАЗами», стала гораздо ровнее.
Машинка бодренько побежала по ленте красноватого асфальта со скоростью в сто двадцать, и мы через какой-то час уже добрались до Ерейментау. Моим попутчикам захотелось покушать. Мы подрулили к придорожному кафешнику. Шакеев заказал себе лагман, а мы со вторым Ерланом ограничились мантами. Жрачка оказалась на удивление отвратной, и мы очень быстро свалили оттуда. Асфальт снова убегал под колёса нашей машинки, а чуть дальше ерейментауского придорожного кафешника мы проскочили по мосту над железной дорогой, шедшей из Ерейментау в сторону Степногорска.
В былые времена там ежедневно ходил пригородный поезд Ерментау – Айсары, а теперь его заменили на пассажирский Астана – Айсары, ходивший два раза в месяц. Тем не менее рельсы «айсаринской ж. д.» оказались натёрты до ярчайшего блеска! Позже окажется, что там заложена в график всего одна пара грузовых в сутки.
Ближе к Астане асфальт на трассе вдруг поплыл крупными волнами, и у самого въезда в Новую Столицу Евразии мы плелись с черепашьей скоростью. Но всё равно через четыре часа после выезда из Экибаса мы оказались почти в центре Астаны. Шакеев поставил свою машину на стоянку, и я потащил обоих Ерланов на летнюю площадку. Мы с его другом взяли себе водочки, а Шакеев почему-то не стал «дезинфицироваться» после ерейментауского «ужина», и ограничился только кружечкой пивасика. Меня не удивило потом, что глубокой ночью не залитый спиртом придорожный лагман попросился из него обратно – нам с другим Ерлой прокатило…
117. «Лесная Сказка»
Через месяц со дня передислокации в Астану нашей Компании исполнилось семь лет с момента её создания, и по такому случаю уже традиционно устраивался праздничный банкет. Пока «KEGOC» находился в Алматы, такие банкеты устраивались в развлекательных комплексах «Алтын Алма» и «Metro», и один раз – в Театре Оперы и Балета. А на этот раз грандиозное гульбище вдруг решили устроить не в Новой Столице Евразии, а в пансионате на одном из озёр Национального парка «Бурабай».
В пятницу, к концу рабочего дня, когда весь народ уже переоделся почти по-пляжному и заранее прихватил из дому сумочки с барахлишком, туристическая фирма, у которой купили путёвки, подогнала к нашему зданию три автобуса. Два были междугородними «Ван-Хулами», но почему-то аж с павлодарскими номерами, а третий – обычный старенький «MAN» с какого-то астанинского городского маршрута.
Полчаса потребовалось на то, чтобы народ рассосался по местам, и начал доставать заранее припасённые «комплекты бортового питания» с одноразовыми стаканчиками. Наша колонна тронулась, наконец, с места, и не спеша покатила по Астраханке в сторону выезда из города на Костанай. Экскурсоводша нашего автобуса, исправно отрабатывая потраченные на неё деньги, тут же взяла в руки микрофон и начала пересказывать нам всю историю Астаны со времён Царя Гороха до наших дней.
Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет…
Колонна из автобусов турагентства и парочки наших «Тойот» тем временем добралась до развилки окружной дороги и повернула направо, к Петропавловску. Автобусики побежали чуть быстрее. Барышня с микрофоном минут через сорок выдохлась, и водила включил нам телевизор, висевший у него над головой экраном к нам. Не успел начаться какой-то видик, как «MAN», приплясывавший на трассе сразу перед нами, вдруг начал останавливаться. Мы и один из микроавтобусиков тут же остановились следом, а остальная колонна проскочила чуть дальше. Откуда-то из-под днища старенького автобуса потянуло едким серым дымом, и народ выскочил из него, как ошпаренный! Осмотрев свою лайбу, экипаж «MANа» принял решение вернуться обратно в Астану. Пассажиров там оказалось немного – человек восемь, их рассадили по другим автобусам, и наша колонна покатила себе дальше.
По телевизору начался какой-то новенький российский видик про депутата Госдумы с семьёй, захваченного в заложники «мусорщиком» Гуськовым, а Великая Казахская Степь за окном автобуса потихоньку стала сменяться деревьями. Середину нашей дороги ознаменовала собою огромная автостоянка у поворота на бывшую Алексеевку, которая теперь называлась Ак-Кулем. На площадке стояла целая куча автомашин – от «официальных» междугородних автобусников до огромных фур дальнобойщиков, вдоль шоссе расположилось в ряд с десяток кафешек, и вышедшая из наших автобусов толпа моментально разбрелась по «точкам».
Идя вдоль ряда этих кафе, я внезапно остановился у одного из них, с названием «Ак-Коль». Это оказался снятый с колёс и установленный на фундаменте из бетонных блоков вагон от достаточно редкого на советских железных дорогах электропоезда «ЭР-22»! Я метнулся назад к автобусу за своим фотоаппаратом. Сделав пару кадров, я зашёл внутрь кафе. Вход был через среднюю дверь вагона, здесь же, посредине, поперёк салона стояла стойка с раздачей и прилавок. В одной половине уместилась вполне просторная кухня с большой электроплитой, а в другой половине вагона стояло шесть четырёхместных столиков для «пассажиров». За прилавком крутились две симпатичные барышни:
– Девчонки, а заводских табличек с номером этого вагона внутри нигде случайно не осталось?
Девчушки посмотрели по всем углам своего заведения:
– Не-а…
Номер, ЭР22—5607, всё же нашёлся снаружи, на торцевой стенке вагона. Неоднократно закрашенную надпись удалось вычислить по выпуклым слоям старой краски, потому что солнышко уже стояло низко и светило идеально сбоку. Чуть позже железнодорожные фанаты с «Рассылки-1520 мм» выдали мне всю родословную сего изделия: электропоезд, выпущенный в конце 60-х годов рижским вагоностроительным заводом «RVR», попал с завода сначала в депо имени Ильича в Москве, через пару лет его передали оттуда в депо Перерва, где он лет двадцать мотался из Москвы в сторону Подольска. После развала СССР уже изрядно убитую электричку продали на степногорский Целинный Горно-Химический комбинат, где вскоре, годика через два или три, списали. Кто-то ж не поленился нанять потом трейлер и перевезти списанный вагон ещё почти сто километров до этого Ак-Куля! Вот такая судьба…
Наши автобусы поехали дальше. Через час дороги впереди показалась высокая тёмная гора под названием Синюха, у подножия которой стоял посёлок Бурабай. А ещё через полчаса, когда усталое светило уже сбежало от нас за горизонт, мы подъехали к кольцевой развязке, дорога от которой уходила с главной трассы в курортную зону. На развязке маячило трое или четверо ГАИшников, но нас они останавливать не стали, и наша колонна, перебравшись через мост над железной дорогой, оказалась на улицах Щучинска.
Барышня-экскурсоводша снова вцепилась в микрофон, начав рассказ о курортной зоне, а наша колонна тем временем свернула на первом же городском перекрёстке вправо с дороги на сам Бурабай и, быстро проскочив по тихой улочке микрорайончик из облупленных пятиэтажек, оказалась на абсолютно безлюдной узенькой асфальтовой дорожке, петлявшей в сосновом лесу. Минут через пятнадцать стали попадаться повороты с этой дороги к разным детским лагерям и пансионатам, о чём любезно сообщали разномастные таблички на развилках.
Наконец нашлась табличка и с названием «Приозёрный» – наша колонна нырнула в узенький просвет между соснами и вскоре оказалась у главного здания этого пансионата. Нас уже встречал наш «комендантский взвод», чуть раньше примчавшийся туда на микроавтобусике. Они велели нам оставить всё наше шмутьё в автобусах и немедленно бежать на ужин. Столовая пансионата выдала нам по тарелке гречневой каши и чай с печенюшками. Тем временем нас расписали на житьё по двум пансионатам: примерно половина народа оставалась там, куда мы приехали, а вторая половина должна была переехать в другой пансионат – «Лесную Сказку».
«Лесных сказочников», и меня в том числе, снова усадили в один из автобусов, который в кромешной темноте, с трудом продираясь по узеньким и кривым просекам в густых зарослях, минут через десять подвёз нас к воротам другого пансионата. Мы выбрались из автобуса и пошли к светившемуся чуть вдалеке двухэтажному корпусу.
Свежеотремонтированное здание встретило нас почти стерильной чистотой. Толпу тут же стали расселять, и нам достался двухкомнатный номер на втором этаже здания. В одной из комнат был огромный двухместный «сексодром», а в другой комнате – 5 обычных кроватей. Кроме этого, там ещё была туалетная комната с душевой кабиной и умывальником. Из кранов даже потекла почти горячая вода – корпус пансионата имел собственную электрокотельную. Мы с Рустамом и Саматом заселились втроём в пятиместной комнате, а двухместную дежурная потом закрыла на ключ.
Собственной столовой наш дом отдыха пока не имел, но персонал пансионата где-то разжился парой десятков пластиковых столиков и стульчиков, которые и расставил прямо на песке под огромными соснами у входа в здание. Весь народ вскоре собрался там, площадку осветили фарами двух или трёх легковых автомашин, в одной из лайб врубили на всю мощь магнитофон, и народ начал гудеть.
Шёл первый час ночи, и я собрался всё-таки найти озеро, чтобы искупаться – ночью же это особый кайф! Но составить мне компанию в столь поздний час согласился лишь Жанибек Куанышбаев. Мы вышли на ту дорогу, по которой подъехали к «Лесной Сказке», и пошли неспеша под уклон, резонно рассудив, что вода и должна быть где-то внизу. Вскоре показался следующий дом отдыха, имени С. Сейфуллина, возле него был поворот направо, к «Приозёрному». В дальнем конце дома отдыха у дороги оказался ещё работавший несмотря на столь поздний час шашлычник, а потом начиналось и само озеро Катарколь. Я бегом разделся, залез в воду и долго-долго шёл по тёплому мелководью, покуда не дошёл до глубины хотя бы в метр…
Через час мы вернулись к «Лесной Сказке» и целая орава, до которой дошло, наконец-то, что мы уже и искупаться успели, вдруг тоже решила идти на пляж! На сей раз собралось уже человек пятнадцать или двадцать желающих, которые, обгоняя нас, понеслись с криками и песнями к водоёму. Я второй раз купаться не стал и просто стоял на берегу, глядя, как народ плюхается и барахтается в воде. Огоньки санаториев на другом берегу озера то и дело взлетали над водой мириадами разноцветных брызг-искорок. Лишь ближе к трём часам ночи мы вернулись к своему пансионату, и ещё час или полтора сидели за пластмассовыми столиками, припиваючи и припеваючи…
Наутро взошло долгожданное солнышко, и оказалось, что наш пансионат оказался бывшим пионерским лагерем «Ракета» Таинчинского районного комитета профсоюзов. Среди сосен виднелось несколько бывших одноэтажных коттеджей, в которых теперь вёлся капитальный евроремонт. Чуть вдалеке за соснами виднелся трёхэтажный корпус «Приозёрного». Граница между пансионатами представляла собою дырявый металлический забор-сетку возле футбольного поля.
Желающих позвали в «Приозёрный» на завтрак, а после него запихнули в автобус и повезли показывать Бурабай. Два наших автобуса выбрались через сосновый лес на трассу, доехали до Щучинска, и уже на знакомой развилке повернули направо к заповеднику. Дорога пошла через ещё более густой лес, посреди которого вдруг оказалась развилка. Короткую дорогу на курорт перекрыли ГАИшники и ждали проезд какой-то делегации, а нас заставили снова повернуть направо, и мы поехали по какой-то объездной трассе. Вскоре лес сильно поредел, мы проскочили какой-то посёлок с полуразрушенными пятиэтажками и через полчаса добрались до Бурабая.
Проехав по его главной улице добрую половину посёлка, мы остановились у местного турбюро, возле здешнего зоопарка, и наша экскурсоводша побежала за своими коллегами. Через полчаса в оба наших автобуса село по сотруднице заповедника, и колонна покатила дальше. Выйдя из посёлка через специальный экологический пост со шлагбаумами, наши автобусы оказались на очень узеньком асфальтовом шоссе, чудом уместившемся на узенькой прибрежной полоске, и почти в точности повторявшем контур береговой линии. Выше дороги сначала тянулись дома отдыха, санатории и пансионаты, а затем начался густой лес.
Перед совсем недавно построенным монументом-памятником Аблай-Хану мы переехали по мосту коротенькую речку с названием Громотуха, вода по которой должна была перетекать из озера Боровое в озеро Большое Чебачье, так как озеро Боровое подпитывалось подземными источниками. Несмотря на то, что Астану, находившуюся в двухстах километрах отсюда, заливало дождём почти через день, во всей бывшей Кокчетавской области уже второй месяц стояла великая сушь! Грибов и ягод в лесу не было. Озёра зацвели мельчайшими зелёными водорослями и обмелели. Из-за засухи эта речка пересохла, и местная экскурсоводша сказала, что такого не было уже пятьдесят лет!
Экскурсия доехала до смотровой площадки, которая была чуть дальше аблайхановского мемориала, наши автобусы там развернулись, и экскурсоводша потащила всю толпу по выложенной камушками ступенчатой дорожке, вёдшей на вершину холма. Одновременно с нами сюда же подъехала пара свадебных кортежей, на смотровой площадке моментально образовалась какая-то невообразимая сутолока, и мы со Славиком Аксёновым как-то сразу же решили в эту гущу народа не соваться. Взяв по бутылочке пивасика, мы присели поодаль на густо усыпанном старой хвоей огромном замшелом валуне, где и дождались благополучно окончания осмотра.
К моему изумлённому разочарованию, хвалёно-легендарные окрестности Борового оказались совсем не такими красивыми, как все до этого путешествия мне рассказывали! До баянаульского озера Джасыбай Боровому было так далеко, что об этом даже и говорить не стоит! Колонна автобусов подвезла нас обратно к монументу Аблай-Хану. На горе за монументом виднелось огромное пятно выжженного леса, а вокруг монумента расположилась целая куча «коробейников» со столиками, на которых были разложены всяческие сувениры. Парочка торговцев потчевала народ кумысом. Жалко, что в этом месте не догадались поставить и летнюю площадку кафешника с шашлычками и пивасиком – лично я бы не отказался…
Прослушав ещё один сорокаминутный рассказ «курортно-боровской» экскурсоводши, мы снова расселись по автобусам и, сделав короткую остановку в Боровом, чтобы высадить экскурсоводов местного заповедника, минут через сорок вернулись в наш пансионат.
Надвигалось время торжественного обеда, посвящённого семилетию фирмы. «Комендантский взвод» купил где-то целую лошадь и, пока мы катались на экскурсию, сварганил нам из этой лошадки бешбармак совершенно обалденной вкусноты! В столовой «Приозёрного» накрыли праздничный дастархан с коньячком и всяческими салатиками-овощами, а чуть позже на каждый столик официанты принесли по огромному деревянному блюду с варёным мясом – в таком количестве, что мы даже не смогли всё это съесть! Оставшийся бешбор нам потом подали на ужин…
Народ, прихватив с собой коньячку и закуски, потянулся на пляж. На почти пустынном берегу Катарколя сразу же стало весело. Солнышко через пару часов стало уходить за лес, а все окрестности пансионатского пляжа к тому времени облепила целая куча легковых машин с кокшетаускими «дикарями». Они стали ставить палатки между сосен и готовить себе еду, а мы пошли ужинать.
Едва стемнело, как напротив пансионатской столовой началась импровизированная дискотека. «Лабух» с синтезатором, явно приглашённый из какого-то близлежащего кабака, врубил на всю громкость музон, площадка быстро заполнилась желающими подрыгаться, а в самом её центре уже гарцевал Самат Аришев, периодически выкрикивая: «Eruption» давай!»
В третьем часу ночи Славик Аксёнов уболтал уже натанцевавшуюся к тому времени Иру Даумову снова пойти на озеро. К нашей компании «ночных купальщиков» немедленно присоединились Наталья Витальевна Леонтьева и Абиль Абдукаримов. Мы спустились к пляжу, и полчаса поплюхались в теплейшей воде. Найти дорогу назад оказалось не так просто: тропинка причудливо вилась между огромными соснами и, чтобы её найти, я включил подсветку экрана в своём телефоне «Siemens MC60» – света вполне хватило, чтобы не заблудиться сначала между «дикарских» палаток, а потом – и между сосен.
Женщины пошли спать, а мы подошли к бассейну «Приозёрного», где продолжали сидеть мужики с других департаментов. На пластиковых столиках возле них стояло ещё прилично всяких разных бутылочек, и мы протарахтели почти до рассвета…
После воскресного завтрака народ снова расселся по автобусам и поехал плюхаться в озере Боровом. У меня не было сил переться куда-то в в такую рань и, встав только ближе к одиннадцати, я пошёл в «Приозёрный». За столиком у входа в бар напротив пансионатской столовой сидело человек пять и потягивало пивасик. Возглавлял компанию вице-президент нашей фирмы Дуйсеке Нурбаевич Турганов, который, едва взглянув на меня, тут же спросил:
– Как здоровье?
– Никак…
– Ну тогда угощайся! – перед Дуйсеке Нурбаевичем лежал огромный свёрток с копчёной пелядью.
Я зашёл в бар, взял пару бутылок пивасика российского производства со странным названием «Велкопоповский козел», и присоединился к ним. Пивасик оказался вполне ничёшным, а рыбка – вообще божественной! Дуйсеке Нурбаевич вскоре ушёл куда-то по своим делам, а мы вчетвером прикупили ещё пивасику и спустились на пляж. Через пару часиков стало совсем хорошо, а там подоспел и обед. Как раз к этому времени вернулись автобусы с Борового, и вся толпа покатила в столовую.
После обеда начались всякие спортивные соревнования. Большинство народа ссосалось у футбольного поля, где и разыгрались самые жаркие события того воскресного дня.
К семи вечера мы расселись по автобусам, чтобы возвращаться в Новую Столицу Евразии. «Комендантский взвод» выдал нам в дорогу «сухой паёк»: несколько упаковок кокчетавской минералки в пластиковых бутылках, и огромную картонную коробку со свежими булчонками, испечёнными в пансионатской столовой. Воду по дороге выпили почти всю, а булчонки как-то не пошли, и с десяток их мне пришлось забрать из автобуса домой вместе с этой коробкой, которая простояла всю дорогу на соседнем со мною автобусном кресле.
Несмотря на то, что в Боровом стояла великая сушь, Астану все эти выходные исправно заливало дождями, и наш автобус влетел поздно вечером в город, поднимая обильные фонтаны грязных брызг…
118. «Глоток свободы»
Надвигалась совершенно знаменательная дата: целый один год со дня рождения моего сынишки Денисёнка. «Каникулы» в нашей организации давали в 28 календарных дней, но нашему отделу из-за цикличности производимой в начале месяца работы, отпусков целиком никогда не давали. Зато поэтому разрешали делить их на две или три части. Супруга наотрез переезжать в Астану отказалась, и, чтобы приезжать к своей семье хотя бы три раза в год, я стал делить свой отпуск на три части: по 9, 9 и 10 дней. Откусив вторую по счёту «девятидневку», я собрался на день рождения к сыну…
14 апреля рано утром через Астану должна была проезжать на своём сорок четвёртом скором поезде из Кустаная на Алматы старая моя знакомая проводница Лёлька, и я сначала хотел уехать с ней. Но что-то там у них в графике вдруг поменялось, и она на этот рейс не попала. Узнав об этом за двое суток, я стал думать, как же мне уехать из Астаны вечером 13 апреля.
Незадолго до этого самый дешёвый 10 скорый поезд из Астаны в Алматы вдруг перестал быть ежедневным. Вместо него ежедневным стал испанский скоростной поезд «Тальго» с билетами в три раза дороже. И вот как раз на вечер среды «червонца» в расписании уже не было, а «испанец», из которого к тому времени тоже исчезли дешёвые вагоны, которые были с сидячими «межобластными» местами, был мне не по карману.
Оставался только один поезд, уходивший в тот вечер из Астаны на юг: 56-й скорый «Кокшетау I – Кзыл-Орда». Можно было доехать на нём до Чу, но посмотрев расписание, я выяснил, что пересесть в Чу из 56-го на какой-нибудь другой поезд в сторону Алматы тоже не получится: придётся тогда ждать при этой пересадке аж восемь часов! И я решил тогда доехать сначала до Сары-Шагана, а там пересесть на автобус. Купейных и нормальных плацкартных билетов на кызылординский скорый в кассе за сутки уже не было – оставались только плацкартные боковые, и я взял себе самое ближнее к купе проводников нижнее боковое место.