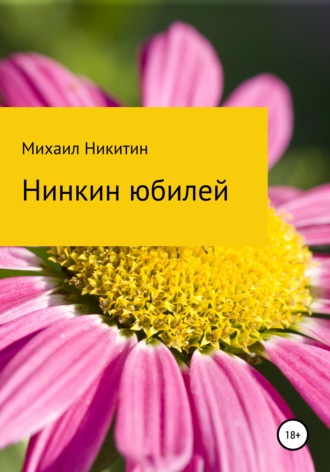
Нинкин юбилей

Михаил Никитин
Нинкин юбилей
1.
– Нас пригласили на юбилей, Нинке – пятьдесят! – сказала жена, входя на кухню.
Нинка, которой исполнилось пятьдесят, – это сотрудница жены. Я сидел на кухне за столом, соображая что ответить. Идти на юбилей мне не хотелось.
Нинка, у которой случился юбилей, была человеком душевным, открытым, словоохотливым и ничего против неё я не имел! Но тащиться в наш местный кабак с тем, чтоб несколько часов сидеть, слушать банальные слова поздравлений, пить водку и жрать «столовское», – никакой охоты не ощущал.
– А где будут праздновать-то? – спросил я с наигранным пренебрежением в голосе, думая, что может это как-то выручит меня; что я смогу, слушая ответ на свой вопрос, уловить в интонациях жены ее настрой относительно похода в кабак.
– В «Пальмире», между прочим! Ты что, идти не хочешь? – заподозрив в моем вопросе сомнения, спросила жена. – Не придумывай! Неудобно получится, нас вместе пригласили, прийдется идти! – сказала, как отрезала!
– Я вот думаю, что ты наденешь? – продолжила она уже обо мне. – Костюм этот у тебя старый, позорный. Серый цвет тебе не идет! Сам весь седой и серый, и костюм серый!
– Ладно, не парься! Что тебе дался этот костюм, не у меня же юбилей? Кто там на мой костюм смотреть-то будет?
– А ещё думаю, что дарить будем? – спросила жена, перескочив с темы о костюме, – что, деньги в конверт положим? – Как ты думаешь, этого хватит?
– Ну а что? Ты хочешь Нинке сковородку какую-нибудь подарить, которая ей даром не нужна, что-ли? Деньги – это нормально! Соберет денежки, да купит себе что-нибудь стоящее. . . Деньги в конверт, цветы купим, – это самое то!
Нинка моложе нас всего лет на пять, наши дети выросли почти одновременно и вся жизнь наша прошла на виду друг у друга. Мы знали все события её жизни, а Нинка знала о том, что происходит в нашей семье. Обсудив с женой сумму вложенных в конверт денег, мы принялись обедать.
– Ты на завтра ничего не планируй, завтра мы идем, – не забудь! – уточнила жена, собираясь после обеда на работу.
– Юбилей евреи придумали, – сказала жена, не глядя на меня и поправляя перед зеркалом прическу, – это от древнего еврейского слова «йобель», что означает «год свободы», знаешь? – жена работала в библиотеке и знала массу таких, забытых человечеством, подробностей.
– Вот все у них так, день рождения и то, – ёбелем назовут, – а ты иди на него, как ёбель. . .
– Дурак ты, старый, – «Й – обель»! . . – разделив слово значимой паузой, и сделав ударение на звуке «Й» поправила меня жена. И как мне показалось, уходя, она весьма значимо хлопнула дверью.
Я слегка покачал головой, будто в укор ей, никак не соглашаясь с её заносчивостью и демонстративным превосходством. У меня на этот счет было свое мнение. А что касаемо самого юбилея, – это такое мероприятие, где говорят человеку в большей степени то, чего он не заслуживает. И как кто-то сказал из юмористов: «Юбилей – это репетиция похорон».
Наша местная забегаловка «Пальмира» возникла из Красного Уголка бывшего заводского ДК, увешанного кумачом и фиолетовым плюшем! Всегда запылённое помещение, с затёртым до черноты, вспученным паркетом. Большие окна с неподъёмными деревянными рамами никогда не открывались. Использовали это помещение все кому не лень: проводили стихийные собрания городские пенсионеры, собирались местные активисты-садоводы, ретивая молодёжь устраивала сходки политклуба, обсуждая речи нового генсека Горбачёва. Здесь же проводились гражданские панихиды, и фиолетовый плюш на мебели и кумачовые стены тогда приходились как нельзя кстати, придавая торжественность церемонии прощания с покойным, которого выставляли на массивную тумбу посередине зала.
В обычные дни, спокойные от митинговых страстей и печальных церемоний, обширный зал заполняли матерчатые стенды, облепленные с обеих сторон рисунками детишек, из кружка рисования этого ДК.
Зал всегда пустовал. Случайно забредшие сюда люди, бродили в одиночестве, погромыхивая рассохшимися паркетными досками и любовались акварельными выбрызгами на бумагу детской фантазии…
С окончанием Перестройки и поворотом к капитализму, участь Красного Уголка резко сменилась. Красный Уголок тоже «перестроился» и обрёл новую судьбу.
Благодаря шоколадным батончикам «Марс» и «Сникерс», вымостившим многим путь к свободному предпринимательству, в стране возник товарный бум, возвестивший приход нового социального слоя Чэпэшников. Чэпешники решительно и бесповоротно, с революционной смелостью, подчиняли всё своим интересам. «Подчинили» они себе и Красный Уголок. Как-то тихо на его месте возникло питейное заведение с экзотическим названием «Пальмира»
Теперь, некогда темные окна, светились ночами. Округу будоражила громкая музыка, ко входу подъезжали и отъезжали подержанные иномарки, туда спешили посетители. Жизнь хмельная и рисковая кипела!
За короткий срок «Пальмира» перемолола массу народу, в том смысле, что создавала социальные конфликты и тут же их разрешала, под бетонным козырьком у входа. По утрам, технички отмывали бетон от блевотины и крови…
Одна волна крутых парней сменяла другую, менялся интерьер, персонал, менялась и общественная мораль – вырабатывались правила поведения, и в какой-то момент «крутизна» отдельных личностей стала уравновешивать возможности других спросить «за базар» – «Пальмира» превратилась во вполне пристойное и доходное предприятие общественного питания.
На том месте, где выставляли покойников для гражданских панихид, установили подиум для оркестра. Волнообразный потолок спрямили и снабдили светильниками, рамы заменили на пластик, со стен содрали кумач и окрасили краской, по углам натыкали кондиционеров, меж колонн установили столы. Теперь здесь можно было провести семейное торжество, устроить корпоратив, или просто посидеть с друзьями.
2.
Мы пришли в «Пальмиру» минут за пятнадцать до назначенного времени. В вестибюле уже кучковались гости. Я давно не видел сослуживцев жены и с интересом рассматривал пришедших.
– Узнаешь, наших девок? – толкнула в бок жена.
– Да какие же они «девки»? – прыснул я, – скорее старушки…
– А это, – глянь, – начальник наш припёрся со своей «новой»… – жена скосила глаза в сторону вошедшей пары.
Их начальника я знал, правда не встречал давненько. Он погрузнел, заметно горбился, лысина заняла уже почти всю голову, победив некогда буйную кудрявую шевелюру. Усы лишь стали гуще, – нависали плотной щеткой над выпуклыми большими малиновыми губами. Его спутница, узкозадая блондинка с красивыми и большими карими глазами и внушительной грудью, не выглядела уж совсем юной, печать жизненного опыта заметна была и в её лице.
– Из «этих», что-ль? – спросил я жену, рассмотрев блондинку.
– Ну да, ты не видишь? И глаза, и губы… Волосищи у неё, как у всех евреек шикарные! Зря она их осветляет, рыжей ей больше идёт… Видно, седина уже пробивается…
– Где он её «откопал»?
– Говорят, из Москвы привёз! Денег стало много, вот, его и прибрали… – горячим шепотом, чтоб её не слышали проходящие мимо нас сослуживцы, сообщила жена.
– Ну, глаза у неё ничего!.. – было начал комментировать я внешний вид подруги жениного начальника.
– Ты на сиськи что-ль её пялишься? – зло прошипела жена и больно ущипнула меня за бок.
– Какие «сиськи»?! Я-ж, говорю – «глаза»!
– Знаю я… пошли уже!
Разнаряженная Нинка встретила нас в дверях банкетного зала. Мы тут же вручили ей конверт и цветы, протараторили пожелания и прошли в зал. Столы в зале стояли большой буквой «П», фамилии гостей красовались на торчащих возле тарелок бейджиках.
Наши места оказались возле кондиционера, – чему я был несказанно рад, -многодневная жара в конце лета порядком надоела, и я наслаждался холодком, что струился мне за ворот пиджака. Ещё одно обстоятельство порадовало меня – весь зал: вход, и все столы были видны как на ладони, – можно было как в театре наблюдать за всем, что происходило.
Публика расселась, народу пришло много. Все крутили головами, осматривая присутствующих, смущенно хихикали, перешептывались. Начались поздравления.
Говорили одно и то же, смущаясь и повторяя уже сказанные ранее слова.
После простодушных поздравлений родственников, слово взял Нинкин начальник. Он долго говорил о том, как нелегко предприятию все эти годы, как «тяжело вставали на ноги в новых условиях» и как здорово, что именно Нинка, которой исполнилось вот уже «восемнадцать лет», все эти годы «вносила вклад» в становление коллектива. Толпа благоговейно внимала витиеватым речам начальника, дружно отвечала ропотом одобрения его шуткам. Поднятые руки и рюмками и бокалами потихоньку опускались, уже не в силах держать поднятое, как начальник произнес заключительную фразу:
– … ты была Ниночка для нас всем: и подругой, и сотрудницей, и кормилицей… – тут зал как-то обречённо охнул, помятуя о том, что начальник часто «припадал» к Нинкиной груди; но начальник «вынырнул», добавив: – …кормила нас своими вкусными пирожками! Спасибо тебе! Всего тебе самого наилучшего в жизни! – произнёс он, и дёрнул плечами, как-будто только что, толкнул по рельсам вагонетку.
Все дружно загудели, начальник обнял и расцеловал Нинку, отчего та засмущалась и зарделась румянцем. Супруга начальника мельком отметила сей факт, отчего натянуто улыбнулась и застыв, нервно теребила белую салфетку с каменным лицом. Жена чуть тронула меня локтем, и наклонившись, сообщила:
– Глянь, что творится! Наш-то разошелся! Щас только рюмка попала, – пошел со всеми заигрывать! Зачем жену приволок тогда? И она тоже – надо ей всё это наблюдать? Сидеть здесь, как дура… Нинка тоже хороша, ладно на работе кокетничаешь, чего здесь распускаться? Коля её тоже выглядит дураком…
– Ладно, ты! Чего накручиваешь? Ничего особенного…
Знала она или не знала, что в коллективе ходили разные сплетни о взаимоотношении начальника с Нинкой в частности, но многим показались слова начальника весьма двусмысленными.
Я отодвинул прибор, положил салфетку на стол, и с интересом продолжил наблюдать за спивающимся народом. Все уже «отметились», но официанты услужливо подливали водку и вино, и тост следовал за тостом! Никто уже не вслушивался в суть произносимого, да и сами «ораторы», поняв, что не в силах переорать общий шум, обращались уже лично к Нинке!
Слов я не мог разобрать, говорившего выдавали лишь шевеление губ, да подрагивающий в руке от волнение бокал. Сидящие рядом, всё-таки что-то слышали, кивали головами, улыбались, затем дружно чокались и выпивали.
Выпивали охотно и до дна! От выпитого исчезло начальное смущение. Голоса зазвучали громче. Теперь говорившие забывали, кому они произносят речь, и с чего начали своё выступление, вступали в полемику с сидящими напротив; кто-то с мест выстреливал фразой: «Выпьем!», в ответ раздавалось протяжное: «Тостующий пьёт до дна-а-а!»
Тостующий обрывал речь, пьяно махал рукой, ободряюще кивал Нинке, и, переворачивал во внутрь содержимое бокала.
Гомон нарастал. Включили музыку. Грохот чёрных корытообразных динамиков нарастал и вскоре уже оглушал, заставляя вибрировать внутренности, со всем их содержимым.
Танцевать, – то есть топтаться, изображая танец, – я наотрез отказался и сидел, с немалым любопытством продолжая глазеть. Организаторы угадали. Репертуар из девяностых «бил», что называется «в точку»! Народ неистово плясал.
«Людям нравится то, что возвращает их к временам, когда все мы были «в соку», – заключил я про себя, – тогда «два кусочека колбаски» пели хором, пританцовывая под хриплый вой динамиков. И вот оно все вновь! Музыкой нас вернули в молодость! Как приятно вспоминать «былые подвиги», шлепая подошвами и стуча каблуками по паркетному полу!»
Но, глядя на знакомых мне с молодости людей, – в этом зале, на этой вечеринке, – рассматривая лица, фигуру, одежду, – в которой эти люди пришли, – я не мог отделаться от мысли, что произошел провал времени, что они как-то все резко постарели.
Причем, – все и разом!
«Я-то, такой же вот, как и раньше, а они – постарели!» Меня так позабавила эта мысль, что я, понимая всю абсурдность умозаключения, всецело предался наблюдению за коллективной попыткой людей отравиться в этот вечер алкоголем и наполнить сознание иллюзиями былого.
Разрушение временем было заметно во всем: в расплывшихся и огрузневших фигурах, в деформированных суставах ног, которые уже не выносили шпилек, а могли себя чувствовать более-менее комфортно только в растоптанных мокасинах, напоминающие тапочки; в дряблости кожи, в оплывших плечах и предплечьях, дряблой шее и висячих двойных и тройных подбородках. Оставались только глаза, – глаза не изменились!
Глаза были теми же, молодыми, живыми и выразительными, что и раньше, выставляющие на показ еще не остывшие, желания и страсть.
Следя за выражением этих «зеркал души», можно было увидеть, что душа их обладателей еще не лишена самых буйных фантазий и что все впечатления молодости еще живы.
– Ну что ты не идёшь танцевать? Что ты меня не приглашаешь? – вопрошала жена.
– Слушай, какой из меня танцор? Топтаться в кружке со старыми тётками?.. Бр-р-р!
– Ну тебя! А я пойду, разомнусь… – жена выбралась из-за стола и пошла в круг танцующих.
Теперь, уже никто не мешал мне беззастенчиво смотреть на публику. Я налил в бокал красного сухого вина, подцепил пару кусочков сыра и буженины, и стал азартно наблюдать, наслаждаясь выпивкой и закуской.
Играла громкая музыка. Я жадно смотрел, схватывал и оценивал каждую мелочь: подмечал неловкие жесты официантов, снующих между столиками; наблюдал за танцующими, оценивающе окидывал наряды, внешность тех, кто топтался под ритмичную музыку.
Женщины ревниво оглядывают друг друга, бросают взгляд на располневшие бедра и жирные складки на боках танцующих подруг. Может от этого, – от осознания своих физических недостатков, – многие не решались выйти «потоптаться» в проходе, под зазывные ностальгические хиты.
Подогретые алкоголем и ресторанным репертуаром, одиноко скучающие за столами дамочки, постепенно входили в азарт. Глаза загорались, видно было: хочется стряхнуть тяжесть нажитого, изнуряющую немощь и комплексы возраста, – хо-чет-ся!
Вот еще чуть-чуть… еще пару минут, для решимости, а там… будь, что будет!..
Вот закончилась одна мелодия, но тут же началась вторая.
«…Ах, какая женщина, кака-а-а-я женщина! Мне-б таку-у-и-ю-ю-ю…» заскулил с восточным акцентом мужской голос..
Вижу, что глаза женщины, сидящей через столик напротив, уже сияют… Голова кивает в такт музыке. Кажется, я её уже видел… не помню где… Полные пальчики красивой формы нервно постукивают по белоснежной скатерти рубиновыми коготками. С кошачьей грацией, пальчики медленно распрямляются в ладонь, ладошка мягко шлёпает по столу в такт звучащей мелодии.
Вот, подходит мужчина к этой пламенеющей даме, спрашивает что-то, наклоняясь к уху. Желает, видимо, пригласить… Танцующие искорки в её глазах моментально исчезают, возвращая лицу скучную, недовольную гримасу… рука нервно сминает салфетку, лежащую на столе… – «оборвалась песня в душе, понимаю! – думаю я. – Мне жаль, что прервалась эта завораживающая метаморфоза», – мысленно посылаю я свои сожаления объекту наблюдения; с досады «опрокидываю» рюмку водки, нетронутую до этой поры… и уже не отвожу от этой женщины своего заинтересованного взгляда.
В молодости, когда эти же женщины были резвы, пружинисты телом и дерзки в поступках, – полны жизненной силы и желаний, – им казалось преодолимым все! Все на свете казалось доступным и возможным. Теперь, когда поток времени смыл свежесть красок, вроде бы все тоже, но, все-таки, – уже не то. Только контуры былого еще узнаваемы. Можно восстановить события, понять причины промахов, жизненных неурядиц, что мешают жить, но вернуть уже ничего нельзя. Какая грустная, жизненная мелодия!
А в адрес юбилярши по-прежнему звучат нескончаемые тосты: «поднимем бокалы, за здоровье, за доброту, за родителей, за то, какая ты хорошая и еще – поднимем, поднимем…»
Тамада нагоняла веселье, но звучащее воспринималось с грустью: и то, что в пятьдесят жизнь только начинается, и что муж юбилярше достался хороший, – не как всем; и дети замечательные… И все остальное: эти фальшиво-восторженные слова никто всерьез не воспринимал и не слушал, – им уже не придавали значения.
«Дирижабль настроения» так и не взлетел, чувствовалось только, как он вяловато переваливался, – то увеличиваясь, то совсем сникал…
«Таквыпьемжезато!»!
– Что можно пожелать женщине в пятьдесят? Что можно начать женщине в пятьдесят?» – слышу, как беседуют два мужика, стараясь перекричать грохот музыки.
У мужика заговорщицки хитрая, пунцовая и потная физиономия. «Точно, – думаю, – сейчас пошлятину сморозит» Конца фразы не слышу, – вновь грохот барабанов, публика с гиканьем кидается танцевать…
«Женщина в пятьдесят… С потухшим взглядом, с одряхлевшим телом. С проблемами у детей, – которые живут не так, как ей представлялось, как она мечтала! Когда–то давно они начинали проявлять характер; когда–то она водила их на новогодние утренники, смотрела на милые детские хороводы. Да и кому она теперь нужна, кроме своего уставшего от жизни, смирившегося с её фригидностью мужа? Сбегающего из дома при любой возможности?» «Даже в те моменты, когда она получает явно лживый комплимент, она не вздрагивает, как это было в молодости, радуясь будущему приключению, а только снисходительно улыбается, воспринимая это как шутку, которая не веселит».
«Только грустное всепонимающее спокойствие является для нее теперь спасением; только надежда на то, что ничего плохого в ее жизни уже не случится; и если здоровье позволит, она, не обременяя собой близких, сможет дожить до глубокой старости».
Я как-то съехал в настроении. Я это понимаю, что мне грустно, и вновь тянусь за рюмкой…
– Ну, я вижу, ты уже наклюкался! – прерывая мои действительно упаднические размышления, говорит жена, усаживаясь рядом. – Хорошо поплясали! – ей жарко, она обмахивает себя веером, составленным из нескольких бумажных салфеток. – А ты что? Всё сидишь? Вон, посмотри, наш начальник ни одного танца не пропустил! Всё с бабами танцует… смех! С Нинкой заигрывает… – рассказывает жена, отдуваясь от тёплой нахлынувшей на неё волны… – Куда ты смотришь? – не оставляя меня в покое, интересуется жена.
– Да, так…
– На ту тётку? – и указывает на женщину, что я только что разглядывал, – это жена нашего начальника. Он с нами пляшет, а она сидит…
«Вот тебе раз! Когда она успела пересесть? Я что-то пропустил, и видно, действительно напился… – решил я про себя»
– Так она вроде бы там, в начале стола сидела?..
– Ну, сидела… Да тут уже всё перепуталось! Пошли танцевать! – предложила вновь жена, отхлебнув из своего бокала с шампанским.
– Нет, не пойду! Пойду покурю где-нибудь там, в коридоре, или на улице… а то что-то я действительно…
– А! Ну тебя! – и она пустилась в пляс, благо, что в динамиках вновь гулко и ритмично забили молоты, им в такт забрызгал из светильников свет разноцветными лучами, загудела и задвигалась толпа…
Я поднялся, и, протискиваясь между столами, двинулся к выходу из зала. Блондинка, – жена начальника, именно та женщина, на которую я с интересом пялился, тоже поднялась с места, – похоже, с тем же намерением. Как говорится в умных романах: «наши пути пересеклись». Желая протиснуться между танцующими, она попросила:
– Помогите мне пробраться к выходу!
Я озадаченно посмотрел на тесную, азартно танцующую толпу, и в шутку предложил ей потанцевать:
– Через эту толпу можно пробраться только одним способом – в ритме танца!
– Если так… я не против!
И мы как бы танцуя медляк, внедрились в толпу.
– Давайте знакомиться! Вадим, – представился я.
– Ира… – ответила блондинка, подняв на меня взгляд своих томных, карих глаз, наполненным удивлением и любопытством.
– Как вам мероприятие? – спросил я, желая чем-то развлечь свою партнершу.
– Банальная пьянка… хотя, коллектив не из портовых грузчиков…
Так, пустившись в обсуждение юбилея и танцуя в обнимку, мы протискивались к выходу. Ирина обладала изящной фигурой, под тонким платьем ощущалось плотное тело, руки красивой формы лежали у меня на плечах, копна волос колыхалась гривой; я чувствовал, как горяча её рука, нежные пальцы с красивыми коготками подрагивали… Звук музыки вдруг умолк, песня закончилась. И чтоб не дать толпе разойтись, ведущая задорно выкрикнула название следующей мелодии, всё вновь вернулось, – ритм, слова, свет, топот…
Я давно не танцевал с другими женщинами, и возникшая вдруг близость, вибрирующее вплотную незнакомое и предсказуемое в движении женское тело, запах духов, волос, лиричная музыка, завывание саксофона, – необыкновенно взволновали меня! Я попытался теснее прижать Ирину к себе, она ответила взаимностью, прижалась, почти положила голову мне на грудь, дрожь возбуждения пронзила меня. Я тут же ощутил, что и она взволнована не меньше меня! Делая шаги, и поворачиваясь в танце, я искал глазами жену, но её среди танцующих не увидел. К концу второй мелодии мы «дотанцевали» до выхода, и отстранившись друг друга, в волнении, вышли в коридор. Шум веселья остался позади, надо было что-то говорить, предпринимать…
– Я вот, собственно, вышел покурить… – сказал я, обратившись к Ирине.
Скорее, это было лишь желание сгладить возникшую неловкость.
– Дайте и мне! – тут же попросила она.
– Может, тогда пойдём, где-нибудь присядем? На первом этаже есть бар, там курить разрешено… – пытался я найти выход из неловкой ситуации.
– Нет, лучше там, где нет народу, посидеть в тишине…
Я вспомнил, что в ДК, по соседству с банкетным залом, где шла пьянка по случаю Нинкиного юбилея, располагались классы для кружков. «Как удивительно сознание подкидывает решения в такие моменты!»
– Вот тут, есть рядом помещение, у меня приятель с детишками занимается творчеством… сейчас там уже никого нет, можем пойти туда… – тут же предложил я.
Мы прошли по узкому служебному коридору, и вошли в большую комнату с высоченным потолком. Вдоль стен, по направлению к большому окну напротив двери, стояли простенькие столы. Ирина прошла внутрь комнаты, и развернувшись застыла возле линейки столов. Всем видом она напоминала школьницу на выпускном вечере, возбужденную, обиженную, романтическую школьницу. Бледный свет от высокого окна не позволял разглядеть выражения её лица, лишь силуэт – тёмный силуэт изящной статуэтки притягивал к себе. Ждать и медлить было преступно. Подойдя вплотную, я не стал заговаривать с ней, обнял, поцелуем залепив ей рот, прижал к себе… Она как-то обреченно охнула, напряглась всем телом, и увлекая меня, легла на стол…
Когда всё было кончено, и страсть улеглась, Ирина коротким движением поправила прическу, одёрнула платье и не говоря ни слова вышла из комнаты.
Наша спонтанно возникшая близость была сродни выдоху после душной задержки дыхания, – шумная, яростная, отрезвляющая близость… Из меня вышла смесь агрессии, отчаяния, сарказма; взамен, наступила растерянность, опустошение. Размышляя, я ватными пальцами вытянул из пачки сигарету, и, продолжая сидеть на столе, закурил.
В сознании крутилась фраза «неуправляемый занос».
– С чего бы? – подумал я. – Тут уж не «занос», тут – «лобовуха»! Причем, – «по встречке»! Вот так едешь себе, баранку крутишь, планы в голове разные… мечты… жизнь – накатанная колея. И вдруг, – вылетает тебе «в лоб»… а за рулём – блондинка!
Еще несколько часов назад я даже не догадывался о её существовании, и вот так, сразу, без всякого плана и подготовки, мы словно подростки решились на такое…
Теперь надо было возвращаться к общей компании. Как бы себя не выдать. Вопросов в голове роилась куча, но всё потом… всё потом…
Сигарета закончилась, окурок надо было загасить, и пепел выбросить, что я держал в ладони, – надо было возвращаться.
Я вошел в банкетный зал. Гулянка продолжалась, но народу осталось вполовину меньше. Группа женщин рядом с Нинкой, за её столом, старательно выводили на разные голоса: «парней так много ха–а–лос–тых…» Мужики обступили дальний стол с подарками и о чём-то оживленно спорили.
Муж Нинки – Коля что-то убежденно доказывал мужикам, в том числе и Нинкиному начальнику… Колю я знал давно. Работал он мастером-наладчиком. Я встречал его – то на монтаже, то на ремонте оборудования. Всегда запаренный, куда-то бегущий с инструментами, с бухтой кабеля, с мотком кислородного шланга… У Коли всегда возникали споры с начальниками: «– Да чего вам говорить!? Вы ж тяжелее собственного члена в руках-то ничего не держали…».



