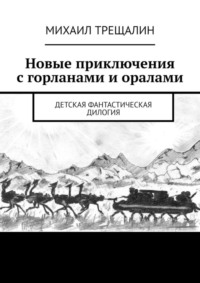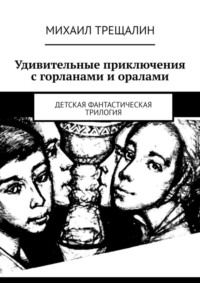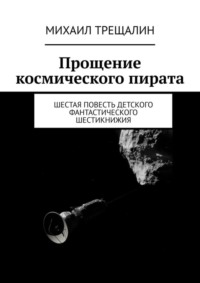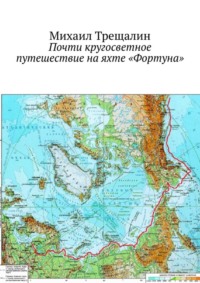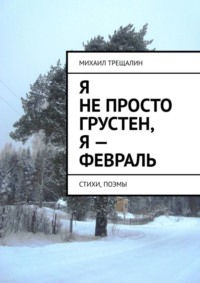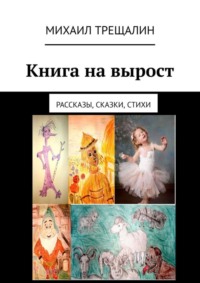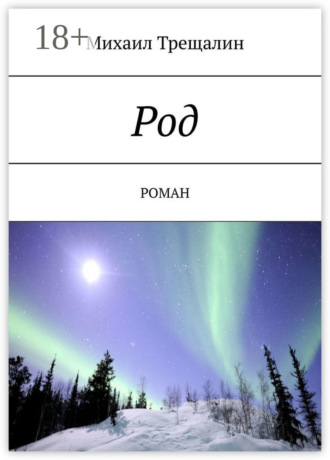
В 1916 году Николай Александрович перешел на строевую службу. «Окончил курсы Авиации при Политехническом институте в Ленинграде (Петрограде) и Летную школу в Севастополе со званием военного летчика, после чего был направлен на фронт в 3-й Армейский Авиационный отряд, где получил три георгиевских креста и был произведен в прапорщики».
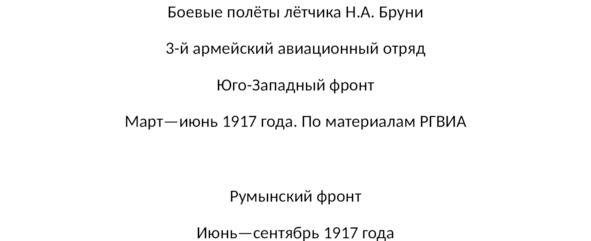
Все даты приведены по старому стилю.
Март 1917 года
После окончания Севастопольской военной авиашколы Бруни прибыл на должность лётчика в 3-й армейский авиаотряд.
Информация о его полётах в марте 1917 года пока не найдена. Поиск продолжается.
Согласно приказу по 7-му авиадивизиону Бруни «с 29 марта 1917 года переименован в старшие унтер-офицеры за успешные полёты».
Апрель 1917 года
3-й армейский авиаотряд
1 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, 2ч10мин
7 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, 1ч25мин
13 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, разведка и бомбометание, 1ч35мин
16 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, охрана. 1ч10мин.
18 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, фотографирование, 1ч40мин.
18 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, бомбометание, 1ч20мин.
19 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, бомбометание, 2ч30мин.
20 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, фотографирование и разведка, 1ч13мин.
20 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, бомбометание, 2ч10мин.
22 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, 2 полёта = 3ч50мин.
25 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, 2 полёта = 3ч25мин.
Итого за апрель 1917 года Бруни совершил 13 полётов= 22 часа 28 минут.
РГВИА. Ф.6048. Оп.1. Д.3. Л.47
Май – июнь 1917 года
В приказе по 7-му авиадивизиону от 11 мая 1917 года объявлены полёты:
3-й армейский авиаотряд
2 мая 1917 года. Старший унтер-офицер Бруни, корректирование с штабс-капитан Ложкиным. 2ч15мин.
3 мая 1917 года. Старший унтер-офицер Бруни, корректирование с штабс-капитан Ложкиным.
4 мая 1917 года. Старший унтер-офицер Бруни, перелёт на базу, 1 час.
4 мая 1917 года. Старший унтер-офицер Бруни, перелёт с базы, 1 час 10 минут.
РГВИА. Ф.6048. Оп.1. Д.3. Л.73
РГВИА. Ф.6058. Оп.1. Д.10 «Журнал военных действий 3-го армейского авиаотряда,
16 мая – 15 июня 1917 года. 8-я армия».
16 мая 1917 года. Лётчик младший унтер-офицер Бруни. Наблюдатель штабс-капитан Ложкин. Аппарат «Ньюпор-10». Задание: охрана разведывательного аппарата «Морис-Фарман» [экипаж: штабс-капитан Карачевский и наблюдатель подпоручик Яковлев]. Маршрут: Павельче – высота 337—Посочь – Старые Богородчаны. t = 18,50. Подъём в 6ч50мин утра. Охрана выполнена. РГВИА. Ф. 6058. Оп. 1. Д. 10. Л. 1.

«Ньюпор-X». (Nieuport-X, «Ньюпор», «Ньюпор-Бебе»). Истребитель и разведчик («скаут»). Двухстоечный двухместный полутораплан с деревянным каркасом и полотняной обшивкой, с мотором «Гном» или «Рон» мощностью в 80 лошадиных сил. Завод В. А. Лебедева и завод «Дукс» строили аппараты этого типа по лицензии. Также эти машины поставлялись в Россию из Франции. Основные технические характеристики: длина – 7,1 м, размах крыла – 8,2 м, площадь крыла – 17,6 кв. м., масса пустого – 435 кг, взлётная масса – 610 кг, максимальная скорость – 145 км/час.
17 мая 1917 года. Лётчик младший унтер-офицер Бруни. Наблюдатель подпоручик Яковлев. Аппарат «Морис-Фарман». Задание: разведка. t = 190. Подъём в 6ч30мин утра. Разведка выполнена. РГВИА. Ф. 6058. Оп. 1. Д. 10. Л. 1.
18 мая 1917 года. Лётчик младший унтер-офицер Бруни. Наблюдатель штабс-капитан Ложкин. Аппарат «Ньюпор-10». Задание: фотографирование позиций противника. t = 260. Подъём в 9ч30мин утра. Снимки произведены.
РГВИА. Ф. 6058. Оп. 1. Д. 10. Л. 1об.
19—20 мая 1917 года боевых полётов нет – облачность и дождь.
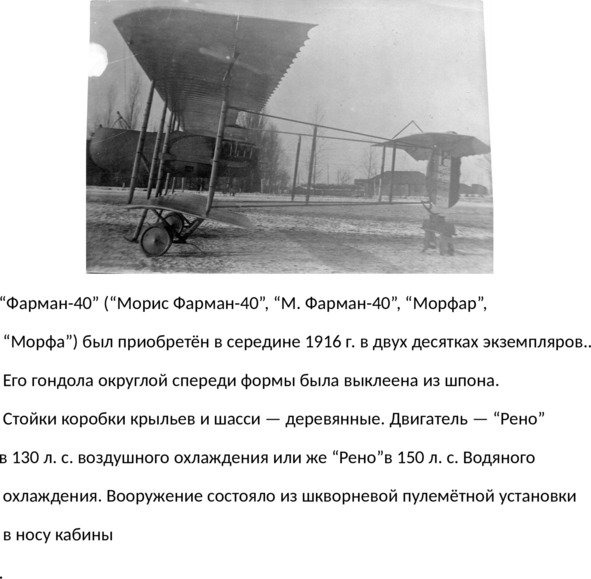
22—23 мая 1917 года боевых полётов днём не было – облачность 8—10 баллов. Но в 23.40 поднималась эскадрилья из трёх самолётов «Морис-Фарман» на бомбардирование складов станции Циснысув. Все самолёты освещались тремя прожекторами и обстреливались артиллерией противника, но все вернулись домой благополучно.
25 мая 1917 года боевых полётов не было вследствие неисправности самолётов.
27 мая 1917 года боевых полётов не было – мгла, облачность 10 баллов, t = 100.
28 мая 1917 года боевых полётов не было – мгла, облачность 10 баллов, t = 100.
29 мая 1917 года боевых полётов не было – мгла.
31 мая 1917 года боевых полётов не было.
1—2 июня 1917 года боевых полётов не было.
3 июня 1917 года. Лётчик старший унтер-офицер Бруни. Аппарат «Ньюпор-17». Задание: охрана фронта. 2 часа*. РГВИА. Ф. 6058. Оп. 1. Д. 10. Л. 4.
4 июня 1917 года. Лётчик старший унтер-офицер Бруни. Аппарат «Ньюпор-17». Задание: фотографирование района Ценнув-Дольне (?), высота 362, Посечно. 1 час 30 минут*. РГВИА. Ф. 6058. Оп. 1. Д. 10. Л. 4.
4 июня 1917 года. Лётчик старший унтер-офицер Бруни. Аппарат «Ньюпор-17». Задание: охрана фронта. Вылет вечером. 2 часа 30 минут*. РГВИА. Ф.6058. Оп.1. Д.10. Л.4.
5 июня 1917 года боевых полётов не было – облачность.
6—7 июня 1917 года боевых полётов не было – облачность.
10 июня 1917 года боевых полётов не было.
12—13 июня 1917 года боевых полётов не было.
15 июня 1917 года боевых полётов не было – облачность.
* Продолжительность полётов объявлена в приказе №164 от 13 июня по 7-му авиадивизиону.
РГВИА Ф. 6048. Оп.1. Д.3. Л.108

«Ньюпор-17» (Nieuport XVII, «Ньюсемь»). Истребитель. Одноместный полутораплан с мотором «Рон» мощностью в 110 лошадиных сил. Вооружение: один-два пулемёта (курсовой «Льюис» на верхнем крыле и синхронизированный «Виккерс»). Основные технические характеристики: длина 5,8 метра, размах крыльев 8,02/7,76 метра, площадь крыльев 14,7 квадратного метра, масса пустого 375 килограммов, взлётная масса 560 килограммов, максимальная скорость 164 километра в час. С конца 1916 года эти аппараты поставлялись в Россию из Франции. Завод А. А. Анатры и завод «Дукс» строили аппараты этого типа по лицензии.
Примечание: Всего за период с 16 мая по 15 июня 1917 года Бруни выполнил 6 боевых полётов. Общая их продолжительность пока не известна, так как в журнале эти данные не отображались.
Сведения о полётах 3-го армейского авиаотряда за 11—15 мая и за 16—30 июня 1917 г. пока не найдена. Таким образом, общее количество и продолжительность боевых полётов Бруни за май – июнь 1917 года пока остаётся неизвестным.
В 1917 году после февральского переворота был выбран делегатом от 7-го авиационного дивизиона на Всероссийский съезд авиации».. (3)
Август – сентябрь 1917 года
За август – сентябрь 1917 года о полётах Бруни на Румынском фронте в составе 3-го армейского авиаотряда 8-го авиадивизиона сведений нет.
Из дневника Н.А.Бруни
Петроград. Сентябрь 4, 1917 г. (5)
Здесь другой мир и чувствуется, что немцы близко. На самом же деле не так уж они и близко, и права Москва, смотрящая пока спокойно и на немцев, и на всех Корниловых4. Вероятно, северная столица несколько преувеличивает свое значение, а Россия живет себе по-своему и где-то складывается общественное мнение, копятся силы для спасения страны от «врагов внутренних и внешних». На себе же приходится заметить, как не в силах голова вместить сотни противоположных мнений людей, говорящих в трамваях и гостиных. Да и свои-то впечатления никак не привести в порядок. «Штатские» люди ищут «тихого угла», все говорят о катастрофичности событий, а нашему брату все привычно. Впрочем, пожалуй, покойная бабушка была права, когда говорила о конце мира!
Только один день, здесь проведенный, не дает права решительного суждения, но, по-видимому, здесь люди находят только одну необходимость: бить немцев. Кажется, нужно заметить, что и на меня произвел впечатление рассказ об одном бежавшем из плена русском солдате, который, услышав оратора-большевика-интернационалиста, вскочил на трибуну и, сорвав с себя одежды, показал такие шрамы на плечах, какие бывают на воловьих шеях от плохого ярма…
– Братцы! – Воскликнул пленный к толпе, – да разве можно с немцами брататься, разве может немец признать русского человеком!
Действительно, были случаи, когда немецкие крестьяне запрягали русских пленных и пахали землю, как на волах.
Сентябрь 6, 1917 г.
…Зашел в кафе. Пусто! Каких-нибудь 10—15 человек сидят и пьют голый чай. Пустые полки, хотя бы сухарь какой завалящий. Брюхо подводит.
Сентябрь 7, 1917 г.
Наконец и в Питере я встретил хорошего человека, интернационалиста Колю Бальмонта. В конец света не верит, зато в народе видит совесть и здравый смысл…
В городе пустынно, на реке ни пароходов, ни барок, на улице изредка встретишь автомобиль или извозчика.
Полутемные трамваи одни только неизменно забиты людьми и облеплены, как мед мухами.
Всероссийский съезд авиации завершил свою работу, и Николай Александрович уехал куда-то на фронт, вероятно в Бессарабию, куда был направлен 7-й авиационный дивизион для продолжения военных действий.
Сентябрь 22, 1917 г.
Одесса. Путешествия по революционной России не очень-то приятны, а пришлось проехать порядочно: Петроград – Москва (ему так и не удалось нигде побывать, а ведь Машенька – его, невеста его желанная, должна была быть здесь, и мама, и Левушка. Так проездом с одного вокзала на другой) Киев – Могилев Подольский – Ст. Ларга (Биссорабия) и, наконец, Одесса. Господи! Когда же кончится это скитание мое. Когда же, наконец, Господи, ты вернешь меня моему искусству!
Впечатления сумбурные – разноголосица российская! Кто за войну, кто за мир, кто за царя, а кто за анархию любезную…
Нашим праздным зевакам самое разлюбезное дело.
Такое настроение, что и писать не хочется, и все-все равно безысходно, бездельно и не видно конца.
Неужели ты гибнешь, Россия? Такое большое слово, Божье слово – Россия!
Глядя на Бессарабскую пустынну степь, опять думал о Мусоргском и Бородине, о неизбывности русской мелодии и страстные желания смерти овладевали мною.
Не могу я больше переносить этого лунного света, этих мертвых белых колонн старинного барского дома и страшный голос степи – тишину ночную! Царь небесный, утешителем души, истиной приди, вселись в мя…
Несколько тренировочных полетов, немного строевой подготовки – и учеба кончилась, начались боевые вылеты. Снова фронт. Только теперь уже не Крым, а Бессарабия. Бомбить пришлось нашу исконную славянскую землю. Больно, трудно, но необходимо. Полеты часто, только и успеваешь, пока заправка поесть, да два-три часа, пока ночь непроглядна осенняя, поспать. И опять: «Мотор, от винта», – полет.
Ощущение почти неописуемое. Аэроплан мелкой дрожью колотит. Воздух густой, холодный, в расчалках свист. Вот вдавило неведомой силой в сиденье – и вдруг провал, и уж невесом пилот, и снова вдавило. А машина послушна разуму и рукам твоим. Восторг охватывает неземной, божественный…
* * *Поля! Поля! – Разбег, полет! —Под крыльями метель метет!Проклятого бензина чад,Цилиндры черные стучат;Колотит сердца вечный бойИ стонет воздух голубой!Рвануться бы! Сорвать узду!Ах, мне б разбиться о звезду,Ах, мне бы так ворваться в рай.Кричать России: «Догорай!»,Кричать, кричать… – проклятый чад!А крылья кренятся назад —Туда, где кружат города,Где бьет бескрылая беда! (6)29 сентября 1917 года очередной боевой вылет. Аэроплан резко вздрогнул. Как-то неуверенно застучал, потом несколько раз чихнул мотор и замолк. Впереди возник, наискось разрезающий обзор, неподвижный винт, Запахло гарью. Мелкие, похожие на пламя свечи язычки огня, стали быстро пожирать перкалевую обшивку левого крыла. Огонь, разбежавшись по ее плоскости, разрастался. «Надо немедленно сбросить бомбы, иначе взрыв – конец», – пронеслось в голове летчика. Быстрыми, заученными движениями отправлены за борт все восемь оставшихся бомб. Пламя охватило всю машину. Аэроплан уже не летит, а падает. С неистовой быстротой приближается земля. Вот уже отчетливо видна мокрая тропинка через росистое поле. Стая куропаток шарахнулась в сторону, став на крыло.
Прыжок, прыжок… Резкий удар, острая боль в ногах, из ушей и носа хлынула кровь, сознание угасло. Это конец, но подумать так он не успел…
Потом, толи в бреду, толи в короткие минуты сознания, Николай Александрович молился: «Господи, если выживу, а если выживу, то только волей Твоей, Господи, я посвящу свою жизнь служению тебе, Господи!»
Худой, изможденный бессонными ночами военный хирург – подполковник Савельев, окончив полостную операцию бойца с тяжелым ранением, спросил у сестры милосердия: «Вера Васильевна, что у нас там еще?»
– Летчика разбившегося доставили. Говорят, он около суток в сгоревшем аэроплане пролежал, в поле. Сильно покалечен, и ожоги есть.
– Давайте смотреть, – усталым голосом приказал военврач.
На носилках лежало изуродованное тело, мало чем напоминающее человеческое. Голова же, лицо, волосы каким-то чудом не пострадали, не считая большой ссадины с запекшейся кровью на лбу и кровоподтеков из носа и ушей.
– Бедняга, – вздохнул врач и приступил к тщательному осмотру летчика. Во время осмотра выяснилось, что ожоги не очень значительные, просто ужасающее впечатление создавала жуткая грязь и сажа, покрывшая тело и обгоревшую одежду, два перелома левой руки, очень сильный вывих локтевого сустава правой руки, открытый перелом правой ноги в районе стопы и, видимо, очень сильное сотрясение мозга. – Будем готовить к операции, и как можно скорее. Приготовьте ацетон – мыть, мыть и мыть. Введите противостолбнячную сыворотку.
Летчика перенесли в операционную… Несколько часов спустя, покрытый, как панцирем, гипсом, Николай Александрович полулежал-полусидел на растяжках в послеоперационной палате.
Через сутки он пришел в сознание. Ему принесли письмо от брата Левушки. Нянечка прочла. Из письма явствовало, что Мария Александровна счастлива замужем за норвежским посланником господином Кристенсеном и недавно родила. Николай Александрович выслушал это сообщение спокойно, но скоро устал и забылся тяжелым сном.
25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 г.
Николай Александрович собственною рукой записал в дневнике: «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитому мечом. Здесь терпение и вера святых».
Откровение Иоанна Богослова гл. 13 стр.10
В Петербурге в это время свершилась Великая Октябрьская Социалистическая Революция.
Одесса пока жила еще прежней жизнью. Она не знала о свершившемся…
Глава III
С тех пор, как мой экипаж завернул на дорогу, выезжая из ворот «Плесецкого», где я похоронил свою юность, – с тех пор прошло четыре года… Я, как старик с разбитыми ногами, сижу один в чужом городе, наряженный в больничный синий халат. Тем более невероятно кажется мне письмо твое, написанное тем же почерком, теми же словами юности! (В меня вошли силы от этих слов и подкрепили мой дух. Спасибо тебе!) Ты спрашиваешь о моем здоровье. Ты улыбаешься: я состарился, но старость не сделала меня разумным, и я не верю сам себе! Мне страшно думать о человеке, который войдет в дом моего сердца, ибо там тюрьма.
Милый друг!
Я думаю, что за четыре года скитаний, разбитый, со сломанными ногами я искупил перед Богом свою вину, а ты, счастливая, давно забыла меня, а, значит, и простила.
В тот день, когда я получил предписание ехать на фронт, (23 августа 1914 г.), меня известили о твоей свадьбе! Теперь, когда я при смерти, я узнаю, что ты стала матерью. Господь с тобою! Наши судьбы различны, но я верю, что моя дружеская любовь к тебе – радостное желание сил твоему мужу и ребенку оправдают в твоем сердце то, что я назвал тебя другом.
Коля Бруни
Петроград, 26 октября 1917 г. Революционные матросы блокировали подходы к посольствам иностранных держав. Товарищ Чечерин вынужден во избежание обострения и так очень напряженной политической обстановки разрешить ряду посольств выехать из Петрограда в свои страны. 27 октября, побросав посольское имущество, спешно выехали представители посольств Англии, Франции, Норвегии, Испании и ряда других государств в страны, которые они представляли.
Было разрешено выехать норвежскому посланнику господину Кристенсену с его женой и детьми. Однако он не уехал, и семья еще на долгие годы осталась в России.
Из дневника Н. А. Бруни
Одесса, октябрь, 31, 1917 г.Я больше не буду оправдывать себя!.. Мое глубокое отчаяние, мое душевное опустошение не помогут, нет! Но есть истина, которая стоит, как смерть, у моей постели – любви той, незапятнанной, гениальной, той любви нет! Той любви, когда я был, как оживший тополь, тяжелый весенними соками… Ее нет, нет ее, которую я называл бессмертной. И не будет ее, она не придет! Мы не научились ценить друг друга, а любовь есть то, что любо, чем любуешься. Но мы не научились любоваться друг другом! Любоваться собою! Любоваться любовью! О! Подойди к возлюбленной своей, и ты сделаешься прекраснее, ибо ты затаишь в себе восхищение!
2
Холодный ноябрьский день нес тонкие и колючие струйки сухого снега, загоняя сугробы в самые потаенные уголки московских дворов. Ветер выл в печных трубах, вызывая грусть из глубин девичьей души Ани. В доме было как-то необычно пусто. Отец с утра уехал в клинику, Маша теперь не жила с ними, мама отправилась по своим хозяйским делам.
Аня с самого утра никак не могла найти себе по душе занятие, ходила по дому, прибывая в меланхолии. Она ждала чего-то неприятного. В голове мелькали картинки из воспоминаний дней ее недавнего детства. В этом году ей исполнилось девятнадцать лет. Она невольно поймала себя на мысли, что во всех сегодняшних воспоминаниях обязательно присутствует милый юноша Коленька Бруни. То они вместе с Ниночкой Бальмонт, Коленькой и Левушкой катаются на коньках на Патриарших прудах, то Коленька с ее мамой в четыре руки играют Шопена, а вот Коленька читает свои стихи, разрумянившийся и взволнованный. «Коленька, Коленька, друг ты мой милый! Я, кажется, понимаю: он мне дорог, бесконечно дорог. А может это …? – она сама испугалась недодуманного слова, покраснела и тут же мысленно улыбнулась. – Да, да, конечно, я люблю его. Он такой милый. Но он так давно не бывал у нас. Он, наверное, стал совсем взрослым и что ему теперь до нее, молоденькой девушки? – она взглянула в окно, на дворе уже наступали ранние осенние сумерки. – Что же это я так расхандрилась, нужно чем-нибудь заняться, нехорошо бездельничать». Аня зажгла лампу, взяла в руки книгу и села в гостиной на диван. Чтение не получалось, в голову лезли воспоминания, и в них обязательно был Николай.
Внизу в парадную позвонили.
«Наверное, мама вернулась», – подумала она и пошла открывать.
На пороге стоял Левушка Бруни. Он был очень огорчен чем-то. Это выдавали его грустные глаза и бледность лица.
– Здравствуй, Анечка, – совершенно упавшим голосом проговорил он, – большое несчастье: Коленьку сбили. Он весь разбился, он умирает. Письмо из Одессы, из госпиталя.
Аня побледнела, закачалась и чуть было не упала. Левушка подхватил ее за плечи.
– Левушка, как же это?
– Я больше ничего не знаю. Нужно ехать в Одессу.
– Коленька, милый, – вырвалось сокровенное слово у Ани, – я тоже поеду с тобой.
– Что ты, Аня, там же война, фронт где-то рядом.
– Причем тут фронт, он умирает. Я должна ехать, мне очень нужно.
Они так и стояли по разные стороны порога парадной двери и молчали. На улице к этому времени особенно разыгралась метель. Колючие иглы снега вихрем влетали в прихожую и очень скоро в ее углу, рядом с входом образовался маленький холодный сугроб.
Первым из оцепенения вышел Левушка.
– Анечка, да что же мы стоим. Ты совсем застыла.
– Ах, правда, я замерзла очень. – Левушка вошел, закрыл за собой дверь, и они поднялись в гостиную.
– А когда поезд на Одессу? – уже довольно спокойно спросила Аня.
– В половине десятого вечера. Да успеем, сейчас только четверть седьмого, – сказал Левушка, глядя на большие стенные часы, висевшие в простенке между окнами.
– Тогда я напишу записочку маме, и мы поедем. Правда же, ты возьмешь меня с собой?
– Ну, хорошо, хорошо, только мне тоже нужно собраться. Давай, чтобы не терять времени, с вещами встретимся на Брянском вокзале, – Левушка поклонился и вышел. Аня слышала, как хлопнула парадная дверь, пошла в отцовский кабинет и наскоро написала записку о своем решении ехать. Она сложила в чемодан несколько платьев и еще кое-какие вещи, взяла из бюро в кабинете деньги и, одевшись, отправилась на вокзал.
Брянсний бурлил, как муравейник. Солдаты, мужики с мешками, женщины с плачущими детьми, узлы, узлы. Всюду грязь. Кассы не работают.
Левушка разыскал какого-то железнодорожника и спросил, как быть с билетами.
– Какая вам Одесса, барин. Если и будет поезд, то до Калуги, и то только по командировкам и мандатам Московского Совета. Иначе не уехать.
– Но нам очень надо! Брат при смерти! – горячился Левушка.
– Вся Россия при смерти, мил человек, – посочувствовал железнодорожник, – да и если поедите, то бог знает, где окажитесь, да еще с барышней. Так что лучше и не пытайтесь.
Левушка еще бегал к коменданту вокзала, что-то доказывал, объяснял, но сделать было ничего невозможно, и они вернулись домой.
– Я напишу ему, – сказала Аня.
– Я, право, не знаю. Письмо от 11 октября, а сейчас ноябрь на исходе. Может, и нет его уже? – стал более спокойно рассуждать Лев.
– Да, пожалуй, нужно подождать еще.
– Слышишь? Татьяна Алексеевна, кажется, воротилась…
– Мамочка, Коленька Бруни разбился!
– Насмерть?!
– Нет, пишут, при смерти. Да письмо-то старое, октябрьское…
– Господи! Петя5 убит, а теперь Коля. Боже, за что ты нас караешь! – Татьяна Алексеевна уронила на пол платок. Заплакала…
3
Николай Александрович полулежал, опершись головой о железную дужку госпитальной койки. Стонал во сне майор – сосед с ранением в шею. Мысли роились мрачные, прежние: «Одиночество. Город чужой. Нога болит нестерпимо. Смогу ли я вообще когда-нибудь встать? Смогу ли ходить? Отлетался… Отлетался, сокол…»
Дождь за окном кончился, и в разрывах низких осенних туч показалось солнце. Оно озарило унылую больничную палату, бликами заиграло на белой стене, осветило лицо Николая.
Страшно представить, что с ним сделалось за годы войны: каштановые кудреватые волосы его поредели, щеки осунулись, на переносице легла глубокая, косая складка, подбородок укрыла бородка с серебринками проседи. А главное – глаза. Те глаза, которые всегда искрились веселым задором, угасли, глубоко запали под надбровные дуги и блестели холодом, леденящим, мертвенным холодом.
А солнце светило, светило, как в те далекие и счастливые дни, когда еще не было ни левых, ни правых, ни эсеров, ни большевиков, ни войны, ни революции. Оно также играло на гребнях морских волн, отражаясь бликами золотыми в широких одесских окнах…