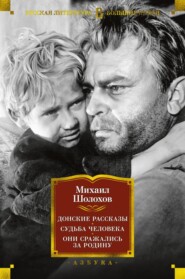По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тихий Дон. Том I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Митька, не изживший давнего своего позора со сватовством, ходил хмурый и злой. По вечерам уходил на игрища и редко приходил домой рано, все больше заря выкидывала. Путался с гулящими жалмерками, ходил к Степану играть в очко. Мирон Григорьевич до поры до времени молчал, приглядывался.
Как-то перед пасхой Наталья встретила около моховского магазина Пантелея Прокофьевича. Он окликнул ее первый:
– Погоди-ка на-часок.
Наталья остановилась. Затосковала, глянув на горбоносое, смутно напоминавшее Григория лицо свекра.
– Ты чего ж к старикам не заглянешь? – смущенно обегая ее глазами, заговорил старик, словно сам был виноват перед Натальей. – Баба там по тебе соскучилась: что да чего ты там… Ну, как живешь-можешь?
Наталья оправилась от безотчетного смущения.
– Спасибочко… – и, запнувшись (хотела назвать батей), смутившись, докончила: – Пантелей Прокофьевич.
– Что ж не наведаешься к нам?
– По хозяйству… работаю.
– Гришка наш, эх!.. – Старик горько закрутил головой. – Подковал он нас, стервец… Как ладно зажили было-к…
– Что ж, батя… – высоким, рвущимся голосом зазвенела Наталья, – не судьба, видать.
Пантелей Прокофьевич растерянно засуетился, глянув в глаза Натальи, налитые слезами. Губы ее сводило, усилие держало слезы.
– Прощай, милушка!.. Ты не горюй по нем, по сукинову сыну, он ногтя твоего не стоит. Он, может, вернется. Повидать бы мне его, уж я доберусь!
Наталья пошла, вобрав голову в плечи, как побитая. Пантелей Прокофьевич долго топтался на одном месте, будто сразу хотел перейти на рысь. Наталья, заворачивая за угол, оглянулась: свекор хромал по площади, с силой налегая на костыль.
XVI
У Штокмана стали собираться реже. Подходила весна. Хуторцы готовились к весенней работе; лишь с мельницы приходили Валет с Давыдкой и машинист Иван Алексеевич. В страстной четверг перед вечером собрались в мастерской. Штокман сидел на верстаке, подчищая напилком сделанное из серебряного полтинника кольцо. В окно ложилась вязанка лучей закатного солнца. Розовый, с желтизной, лежал на полу пыльный квадрат. Иван Алексеевич крутил в руках клещи-кусачки.
– Надысь был у хозяина, ходил толковать о поршне. Надо в Миллерово везть, там дадут ему рахунку[14 - Дать рахунку – довести дело до конца.], а мы что же можем поделать? Трещина образовалась вот какая, – неизвестно кому показал Иван Алексеевич на мизинце размер трещины.
– Там ведь завод, кажется, есть? – спросил Штокман, двигая напилком, сея вокруг пальца тончайшую серебряную пыль.
– Мартеновский. Мне припало в прошлом году побывать.
– Много рабочих?
– До черта. Сотни четыре.
– Ну, как они? – Штокман, работая, встряхивал головой, и слова падали раздельно, как у заики.
– Им-то житье. Это тебе не пролетарии, а так… навоз.
– Почему же это? – поинтересовался Валет, сидя рядом со Штокманом, скрестив под коленями куценькие, обрубковатые пальцы.
Давыдка-вальцовщик, седой от мучной пыли, набившейся в волосы, ходил по мастерской, разбрызгивая чириками шуршащую пену стружек, с улыбкой прислушиваясь к сухому пахучему шелесту. Казалось ему, что идет он по буераку, занесенному багряным листопадом, листья мягко уминаются, а под ними – юная упругость сырой буерачной земли.
– А потому это, что все они зажиточные. Каждый имеет свой домик, свою бабу со всяким удовольствием. А тут к тому ишо половина из них баптисты. Сам хозяин – проповедник у них, ну, и рука руку моет, а на обеих грязи мотыгой не соскребешь.
– Иван Алексеевич, какие это баптисты? – остановился Давыдка, уловив незнакомое слово.
– Баптисты-то? По-своему в бога веруют. Навроде полипонов[15 - Полипоны – кличка старообрядцев.].
– Каждый дурак по-своему с ума сходит, – добавил Валет.
– Ну, так вот, прихожу я к Сергею Платоновичу, – продолжал Иван Алексеевич начатый рассказ, – у него Атепин-Цаца сидит. «Погоди, говорит, в прихожей». Сел, дожидаюсь. Сквозь дверей слышу разговор ихний. Сам расписывает Атепину: мол, очень скоро должна произойтить война с немцами, вычитал из книжки, а Цаца знаешь, как он гутарит? «Конецно, гутарит, я с вами не согласный насцет войны».
Иван Алексеевич так похоже передразнил Атепина, что Давыдка, округлив рот, пустил короткий смешок, но, глянув на язвительную мину Валета, смолк.
– «Война с Россией не могет быть, потому цто Германия правдается нашим хлебом», – продолжал Иван Алексеевич пересказ слышанного разговора. – Тут вступается ишо один, по голосу не спознал, а посля оказался пана Листницкого сын, офицер. «Война, дескать, будет промеж Германией и Францией за виноградные поля, а мы тут ни при чем».
– Ты, Осип Давидович, как думаешь? – обратился Иван Алексеевич к Штокману.
– Я предсказывать не умею, – уклончиво ответил тот, на вытянутой руке сосредоточенно рассматривая отделанное кольцо.
– Задерутся они – быть и нам там. Хошь не хошь, а придется, за волосы притянут, – рассуждал Валет.
– Тут, ребятки, вот какое дело… – заговорил Штокман, мягко освобождая кусачки из пальцев Ивана Алексеевича.
Говорил он серьезно, как видно собираясь основательно растолковать. Валет удобнее подхватил сползавшие с верстака ноги, на лице Давыдки округлились губы, не прикрывая влажной кипени плотных зубов. Штокман с присущей ему яркостью, сжато, в твердых фразах обрисовал борьбу капиталистических государств за рынки и колонии. В конце его возмущенно перебил Иван Алексеевич:
– Погоди, а мы-то тут при чем?
– У тебя и у других таких же головы будут болеть с чужого похмелья, – улыбнулся Штокман.
– Ты не будь дитем, – язвил Валет, – старая поговорка: «Паны дерутся, а у холопов чубы трясутся».
– У-у-гу-м. – Иван Алексеевич насупился, дробя какую-то громоздкую, неподатливую глыбу мыслей.
– Листницкий этот чего прибивается к Моховым? Не за дочерью его топчет? – спросил Давыдка.
– Там уже коршуновский потомок топтался… – злословил Валет.
– Слышишь, Иван Алексеевич? Офицер чего там нюхает? Иван Алексеевич встрепенулся, словно кнутом его под коленки жиганули.
– А? Что гутаришь?
– Задремал, дядя!.. Про Листницкого разговор.
– На станцию едет. Да, ишо новостишка: оттель выхожу, на крыльце – кто бы вы думали? Гришка Мелехов. Стоит с кнутиком. Спрашиваю: «Ты чего тут, Григорий?» – «Листницкого пана везу на Миллеровскую».
– Он у них в кучерах, – вступился Давыдка.
– С панского стола объедки схватывает.
– Ты, Валет, как цепной кобель, любого обрешешь.