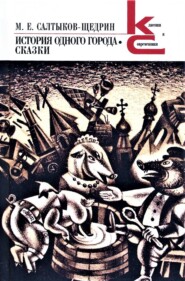По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Губернские очерки
Жанр
Серия
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет; а зачем вам?
– Да так…
– Бога вы не боитесь, Авдотья Петровна! – говорю я, – неужто уж бедность-то в вас и християнство погубила?
– Хорошо вам, Алексей Васильич, так-ту говорить! Известно, вы без горя живете, а мне, пожалуй, и задавиться – так в ту же пору; сами, чай, знаете, каково мое житье! Намеднись вон работала-работала на городничиху, целую неделю рук не покладывала, а пришла нонче за расчетом, так "как ты смеешь меня тревожить, мерзавка ты этакая! ты, мол, разве не знаешь, что я всему городу начальница!". Ну, и ушла я с тем… а чем завтра робят-то накормлю?
– Воля ваша, Авдотья Петровна, – говорю я, – а в намеренье вашем я вам не помощник.
На том мы с ней и разошлись. Однако после этого разговора девка у меня вот тут засела. Больно стало мне ее жалко. "Вот, думаю, мы жалуемся на свою участь горькую, а каково ей-то, сироте бесприютной, одной, в слабости женской, себя наблюдать, да и семью призирать!" И стал я, с этой самой поры, все об ней об одной раздумывать, как бы то есть душу невинную от греха избавить. Жениться мне на ней самому? – нечем жить будет; а между тем и такой еще расчет в голове держу, что вот у меня пять рублей в месяц есть, да она рубля с три выработает, а может, и все пять найдутся – жить-то и можно. Конечно, семья у ней больно уж велика, ну, да бог не без милости: может, и рассуем куда-нибудь мальчиков.
Надумался я таким манером, и как увидел однажды, что идет она по двору:
– А что, – говорю, – Авдотья Петровна, за меня замуж пойдете?
Так она, ваше высокоблагородие, даже в слезы ударилась и сказать-то ничего не могла…….
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пошел я на другой день к начальнику, изложил ему все дело; ну, он хошь и Живоглот прозывается (Живоглот и есть), а моему делу не препятствовал. «С богом, говорит, крапивное семя размножать – это, значит, отечеству украшение делать». Устроил даже подписку на бедность, и накидали нам в ту пору двугривенными рублей около двадцати. «Да ты, говорит, смотри, на свадьбу весь суд позови».
Ну, и точно, сыграли мы свадьбу как следует. Прекословить начальнику я не осмелился; всех приказных позвал, даже сам приехал. Только по этому случаю и угощенье нужно было такое сделать, чтоб не стыдно гостям было, – и вышло, ваше высокоблагородие, так, что не только из двадцати-то рублей ничего нам не осталось, а и сам еще я сделался рублей с пяток одолженным.
Стали мы жить все сообща, и нече сказать, на Дуню пожаловаться грех было. Бабеночка она оказалась смирная, работящая, хоть куда. Одни бы мы без нужды прожили, да вот семья-то ее больно нас одолевала, да и родитель Петр Петрович тоже много беспокойствия делал. Ну, и то опять: покуда жена с хозяйством возится, прибирает, обмывает да стряпает, – работать-то и некогда. Вместо пяти-то рублей, выходит, что и трех словно мы не насчитали, и дошло у нас до того, что есть нечего стало. Это, ваше высокоблагородие, даже не всякому понять возможно, как это ничего-таки есть в доме нет, а между тем это истинная правда. И дошли мы до этой истинной правды очень скоро: не дальше как за другую половину месяца перевалились. Другой подумает, что мы сами этому делу причинны, что вот, дескать, крапивное семя, на первых порах пожуировать захотел, обленился, обабился – так и того не было! Просто само собой так подошло. Пытал я раздумывать, каким бы манером делу этому пособить, однако ничего не выдумал. Вы, сударь, извольте это понять, как оно прискорбно в такое положение попасть через три недели после женитьбы. Тут бы, кажется, и пожить-то в спокойствии, а у нас хлеба нет.
Однажды иду я из присутствия и думаю про себя: "Господи! не сгубил я ничьей души, не вор я, не сквернослов, служу, кажется, свое дело исполняю – и вот одолжаюсь помереть с голода". Иду я это, и река тут близко: кажется, махнуть только, и обедать не нужно будет никогда, да вот силы никакой нету; надежда не надежда, а просто, как бы сказать, боюсь, да и все тут, а чего боюсь – и сам не понимаю. Шел я и мимо кабака – там тятенька Петр Петрович присутствует; увидел меня в окошко и манит. Я было призадумался, да потом вижу, что ждать-то, видно, нечего, перекрестился и пошел. Тятенька просьбу или акт там какой-то сочиняли; нужно было им свидетеля – ну, и попал я во свидетели за четвертак. Это бы еще ничего, пожалуй, да вот что не хорошо: получивши четвертак, я на гривенник выпил и тятеньку угостил. Только с непривычки, что ли, у меня словно все кости с первого же шкалика перешибло, и пошел я домой ровно сам не свой.
Вино, ваше высокоблагородие, тем не хорошо, что раз его выпьешь, так и в другой раз беспременно выпить надо, а остановиться никак невозможно, потому что оно словно кругом тебя окружит.
Кутил я таким родом с месяц – больше; только и трезв был, покуда утром на службе сидишь. Жена, известно, убиваться стала; пошли тут покоры да попреки.
В это самое время производилось у нас в суде дело. То есть дело это и бог знает когда началось, потому что оно, коли так рассудить, и не дело совсем, а просто надзор полицейский. Надзор этот такая, сударь, вещь, что насчет его, можно сказать, все полицейские десятки годов продовольствуются. Жил в нашем уезде мужик, и промышлял он, ваше высокоблагородие, «учительским» ремеслом, или, попросту сказать, старыми книгами торговал и был у прочих крестьян заместо как отца духовного. Мужик он был богатый, и уличить его, следовательно, никаким образом было нельзя, потому что ответ у него завсегда был на ассигнациях. Исправник наш был с ним первейший друг и приятель; ходили даже слухи, что и в торговле мужика часть живоглотовского капитала имеется.
Сижу я однажды в суде, занимаюсь; только подходит ко мне наш столоначальник Коревиков и отзывает меня в сторону.
– Хочешь, – говорит, – хороший куш получить? Ну, конечно, хорошего куша для-че не получить!
– Ну, так, – говорит, – слушай. Знаешь Селифонта Гаврилова?
– Как не знать!
– Следственно, знаешь ты и то, что он под надзором находится, и хоша ему все с рук сходит, однако он ежечасно пребывает в надежде, что возьмут его в тюрьму. Вот и удумали мы с Иваном Кирилычем (тоже столоначальник был), чтобы его, то есть, постращать… Только нам вдвоем это дело соорудить невозможно: первое, потому что он нас обоих довольно знает; а второе, потому что тут Иван Демьянычевым (Живоглотовым) именем действовать нельзя – не поверит – а надо ли, нет ли действовать, так уж от имени губернского начальства…
– А я-то при чем тут буду?
– А вот слушай. Удумали мы это таким манером, что тебя в уезде никто не знает, ну, и быть тебе, стало быть, заместо губернского чиновника… Мы и указ такой напишем, чтоб ему, то есть, предъявить. А чтоб ему сумненья насчет тебя не было, так и солдата такого приговорили, который будет при тебе вместо рассыльного… Только ты смотри, не обмани нас! это дело на чести делай: что даст – всё чтобы поровну!
И точно; меня же заставили написать и указ, и дали мне его в руки. А в указе только и изображено было: "Слушали: Рапорт черноборского земского исправника Маремьянкина от 12 ноября 18.. года, за № 6713, и справку. Приказали: Велеть ему, Маремьянкину, для дальнейших действий, ожидать чиновника особых поручений Сабуневича, а вам, господину Сабуневичу, предписать, немедленно прибыв в село Березино, что на Новом (Черноборского уезда), и изловив там оного совратителя Селифонта Гаврилова Щелкоперова, произвести о всех означенных обстоятельствах наистрожайшее следствие, подвергнув, буде встретится надобность, самого Щелкоперова тюремному заключению".
Под вечер пришел ко мне тот самый солдат, которого они рекомендовали, и лошадей тройку привел.
– А что, – говорю я, – служба! как бы не прорваться нам на эвтом деле!
– Ничего, – говорит, – ваше благородие! и не в таких переделах бывали. Только вы посмелее наступайте.
Приехали мы в село поздно, когда там уж и спать полегли. Остановились, как следует, у овинов, чтоб по деревне слуху не было, и вышли из саней. Подходим к дому щелкоперовскому, а там и огня нигде нет; начали стучаться, так насилу голос из избы подали.
– Кто там? – кричит из окна работница.
– Отворяй калитку, – говорит солдат, – видишь, губернаторский чиновник за хозяином приехал.
Засветили в доме огня, и вижу я с улицы-то, как они по горницам забегали: известно, прибрать что ни на есть надо. Хозяин же был на этот счет уже нашустрен и знал, за какой причиной в ночную пору чиновник наехал. Морили они нас на морозе с четверть часа; наконец вышел к нам сам хозяин.
– Добро пожаловать, – говорит, – гости дорогие! добро пожаловать; давненько-таки нас посещать не изволили.
И сам, знаете, смеется, точно и взаправду ему смешно, а я уж вижу, что так бы, кажется, и перегрыз он горло, если б только власть его была. Да мне, впрочем, что! пожалуй, внутре-то у себя хоть как хочешь кипятись! Потому что там хочь и мыши у тебя на сердце скребут, а по наружности-то всё свою музыку пой!
– Ты Щелкоперов? – спрашиваю я, как мы вошли в горницу.
– Я, – говорит, – Щелкоперов. Да вы, верно, ваше благородие, в первый раз наши места осчастливили, что меня не признаете?
– Да, – говорю, – в первый раз; я, мол, губернский!
– Так-с; а не позволите ли поспрашать вашу милость, за каким, то есть, предметом в нашу сторону изволили пожаловать?
– А вот вели поначалу водки да закусить подать, а потом и будем толковать.
Выпил я и закусил. Хозяин, вижу, ходит весь нахмуренный, и уж больно ему, должно быть, невтерпеж приходится, потому что только и дела делает, что из горницы выходит и опять в горницу придет.
– А не до нас ли, – говорит, – ваше благородие, касательство иметь изволите?
– А что?
– Да так-с; если уж до нас, так нечем вам понапрасну себя беспокоить, не будет ли такая ваша милость, лучше зараз объявить, какое ваше на этот счет желание…
– Да желание мое будет большое, потому что и касательство у меня не малое.
– А как, например-с?
– Да хоша бы тебя в острог посадить.
Он смешался, даже помертвел весь и словно осина затрясся.
– Да, – говорит, – это точно касательство не малое… И документы, чай, у вашего благородия насчет этого есть?.. Вы меня, старика, не обессудьте, что я в эвтом деле сумнение имею: дело-то оно такое, что к нам словно очень уж близко подходит, да и Иван Демьяныч ничего нас о такой напасти не предуведомляли…
Я подал ему бумагу; он раза с три прочел ее.
– Больно уж мудрено что-то нонче пишут, – сказал он, кладя бумагу на стол, – слушали – ровно ничего не слушали, а приказали – ровно с колокольни слетели. Что ж это, ваше благородие, с нами такое будет?
– Да так…
– Бога вы не боитесь, Авдотья Петровна! – говорю я, – неужто уж бедность-то в вас и християнство погубила?
– Хорошо вам, Алексей Васильич, так-ту говорить! Известно, вы без горя живете, а мне, пожалуй, и задавиться – так в ту же пору; сами, чай, знаете, каково мое житье! Намеднись вон работала-работала на городничиху, целую неделю рук не покладывала, а пришла нонче за расчетом, так "как ты смеешь меня тревожить, мерзавка ты этакая! ты, мол, разве не знаешь, что я всему городу начальница!". Ну, и ушла я с тем… а чем завтра робят-то накормлю?
– Воля ваша, Авдотья Петровна, – говорю я, – а в намеренье вашем я вам не помощник.
На том мы с ней и разошлись. Однако после этого разговора девка у меня вот тут засела. Больно стало мне ее жалко. "Вот, думаю, мы жалуемся на свою участь горькую, а каково ей-то, сироте бесприютной, одной, в слабости женской, себя наблюдать, да и семью призирать!" И стал я, с этой самой поры, все об ней об одной раздумывать, как бы то есть душу невинную от греха избавить. Жениться мне на ней самому? – нечем жить будет; а между тем и такой еще расчет в голове держу, что вот у меня пять рублей в месяц есть, да она рубля с три выработает, а может, и все пять найдутся – жить-то и можно. Конечно, семья у ней больно уж велика, ну, да бог не без милости: может, и рассуем куда-нибудь мальчиков.
Надумался я таким манером, и как увидел однажды, что идет она по двору:
– А что, – говорю, – Авдотья Петровна, за меня замуж пойдете?
Так она, ваше высокоблагородие, даже в слезы ударилась и сказать-то ничего не могла…….
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пошел я на другой день к начальнику, изложил ему все дело; ну, он хошь и Живоглот прозывается (Живоглот и есть), а моему делу не препятствовал. «С богом, говорит, крапивное семя размножать – это, значит, отечеству украшение делать». Устроил даже подписку на бедность, и накидали нам в ту пору двугривенными рублей около двадцати. «Да ты, говорит, смотри, на свадьбу весь суд позови».
Ну, и точно, сыграли мы свадьбу как следует. Прекословить начальнику я не осмелился; всех приказных позвал, даже сам приехал. Только по этому случаю и угощенье нужно было такое сделать, чтоб не стыдно гостям было, – и вышло, ваше высокоблагородие, так, что не только из двадцати-то рублей ничего нам не осталось, а и сам еще я сделался рублей с пяток одолженным.
Стали мы жить все сообща, и нече сказать, на Дуню пожаловаться грех было. Бабеночка она оказалась смирная, работящая, хоть куда. Одни бы мы без нужды прожили, да вот семья-то ее больно нас одолевала, да и родитель Петр Петрович тоже много беспокойствия делал. Ну, и то опять: покуда жена с хозяйством возится, прибирает, обмывает да стряпает, – работать-то и некогда. Вместо пяти-то рублей, выходит, что и трех словно мы не насчитали, и дошло у нас до того, что есть нечего стало. Это, ваше высокоблагородие, даже не всякому понять возможно, как это ничего-таки есть в доме нет, а между тем это истинная правда. И дошли мы до этой истинной правды очень скоро: не дальше как за другую половину месяца перевалились. Другой подумает, что мы сами этому делу причинны, что вот, дескать, крапивное семя, на первых порах пожуировать захотел, обленился, обабился – так и того не было! Просто само собой так подошло. Пытал я раздумывать, каким бы манером делу этому пособить, однако ничего не выдумал. Вы, сударь, извольте это понять, как оно прискорбно в такое положение попасть через три недели после женитьбы. Тут бы, кажется, и пожить-то в спокойствии, а у нас хлеба нет.
Однажды иду я из присутствия и думаю про себя: "Господи! не сгубил я ничьей души, не вор я, не сквернослов, служу, кажется, свое дело исполняю – и вот одолжаюсь помереть с голода". Иду я это, и река тут близко: кажется, махнуть только, и обедать не нужно будет никогда, да вот силы никакой нету; надежда не надежда, а просто, как бы сказать, боюсь, да и все тут, а чего боюсь – и сам не понимаю. Шел я и мимо кабака – там тятенька Петр Петрович присутствует; увидел меня в окошко и манит. Я было призадумался, да потом вижу, что ждать-то, видно, нечего, перекрестился и пошел. Тятенька просьбу или акт там какой-то сочиняли; нужно было им свидетеля – ну, и попал я во свидетели за четвертак. Это бы еще ничего, пожалуй, да вот что не хорошо: получивши четвертак, я на гривенник выпил и тятеньку угостил. Только с непривычки, что ли, у меня словно все кости с первого же шкалика перешибло, и пошел я домой ровно сам не свой.
Вино, ваше высокоблагородие, тем не хорошо, что раз его выпьешь, так и в другой раз беспременно выпить надо, а остановиться никак невозможно, потому что оно словно кругом тебя окружит.
Кутил я таким родом с месяц – больше; только и трезв был, покуда утром на службе сидишь. Жена, известно, убиваться стала; пошли тут покоры да попреки.
В это самое время производилось у нас в суде дело. То есть дело это и бог знает когда началось, потому что оно, коли так рассудить, и не дело совсем, а просто надзор полицейский. Надзор этот такая, сударь, вещь, что насчет его, можно сказать, все полицейские десятки годов продовольствуются. Жил в нашем уезде мужик, и промышлял он, ваше высокоблагородие, «учительским» ремеслом, или, попросту сказать, старыми книгами торговал и был у прочих крестьян заместо как отца духовного. Мужик он был богатый, и уличить его, следовательно, никаким образом было нельзя, потому что ответ у него завсегда был на ассигнациях. Исправник наш был с ним первейший друг и приятель; ходили даже слухи, что и в торговле мужика часть живоглотовского капитала имеется.
Сижу я однажды в суде, занимаюсь; только подходит ко мне наш столоначальник Коревиков и отзывает меня в сторону.
– Хочешь, – говорит, – хороший куш получить? Ну, конечно, хорошего куша для-че не получить!
– Ну, так, – говорит, – слушай. Знаешь Селифонта Гаврилова?
– Как не знать!
– Следственно, знаешь ты и то, что он под надзором находится, и хоша ему все с рук сходит, однако он ежечасно пребывает в надежде, что возьмут его в тюрьму. Вот и удумали мы с Иваном Кирилычем (тоже столоначальник был), чтобы его, то есть, постращать… Только нам вдвоем это дело соорудить невозможно: первое, потому что он нас обоих довольно знает; а второе, потому что тут Иван Демьянычевым (Живоглотовым) именем действовать нельзя – не поверит – а надо ли, нет ли действовать, так уж от имени губернского начальства…
– А я-то при чем тут буду?
– А вот слушай. Удумали мы это таким манером, что тебя в уезде никто не знает, ну, и быть тебе, стало быть, заместо губернского чиновника… Мы и указ такой напишем, чтоб ему, то есть, предъявить. А чтоб ему сумненья насчет тебя не было, так и солдата такого приговорили, который будет при тебе вместо рассыльного… Только ты смотри, не обмани нас! это дело на чести делай: что даст – всё чтобы поровну!
И точно; меня же заставили написать и указ, и дали мне его в руки. А в указе только и изображено было: "Слушали: Рапорт черноборского земского исправника Маремьянкина от 12 ноября 18.. года, за № 6713, и справку. Приказали: Велеть ему, Маремьянкину, для дальнейших действий, ожидать чиновника особых поручений Сабуневича, а вам, господину Сабуневичу, предписать, немедленно прибыв в село Березино, что на Новом (Черноборского уезда), и изловив там оного совратителя Селифонта Гаврилова Щелкоперова, произвести о всех означенных обстоятельствах наистрожайшее следствие, подвергнув, буде встретится надобность, самого Щелкоперова тюремному заключению".
Под вечер пришел ко мне тот самый солдат, которого они рекомендовали, и лошадей тройку привел.
– А что, – говорю я, – служба! как бы не прорваться нам на эвтом деле!
– Ничего, – говорит, – ваше благородие! и не в таких переделах бывали. Только вы посмелее наступайте.
Приехали мы в село поздно, когда там уж и спать полегли. Остановились, как следует, у овинов, чтоб по деревне слуху не было, и вышли из саней. Подходим к дому щелкоперовскому, а там и огня нигде нет; начали стучаться, так насилу голос из избы подали.
– Кто там? – кричит из окна работница.
– Отворяй калитку, – говорит солдат, – видишь, губернаторский чиновник за хозяином приехал.
Засветили в доме огня, и вижу я с улицы-то, как они по горницам забегали: известно, прибрать что ни на есть надо. Хозяин же был на этот счет уже нашустрен и знал, за какой причиной в ночную пору чиновник наехал. Морили они нас на морозе с четверть часа; наконец вышел к нам сам хозяин.
– Добро пожаловать, – говорит, – гости дорогие! добро пожаловать; давненько-таки нас посещать не изволили.
И сам, знаете, смеется, точно и взаправду ему смешно, а я уж вижу, что так бы, кажется, и перегрыз он горло, если б только власть его была. Да мне, впрочем, что! пожалуй, внутре-то у себя хоть как хочешь кипятись! Потому что там хочь и мыши у тебя на сердце скребут, а по наружности-то всё свою музыку пой!
– Ты Щелкоперов? – спрашиваю я, как мы вошли в горницу.
– Я, – говорит, – Щелкоперов. Да вы, верно, ваше благородие, в первый раз наши места осчастливили, что меня не признаете?
– Да, – говорю, – в первый раз; я, мол, губернский!
– Так-с; а не позволите ли поспрашать вашу милость, за каким, то есть, предметом в нашу сторону изволили пожаловать?
– А вот вели поначалу водки да закусить подать, а потом и будем толковать.
Выпил я и закусил. Хозяин, вижу, ходит весь нахмуренный, и уж больно ему, должно быть, невтерпеж приходится, потому что только и дела делает, что из горницы выходит и опять в горницу придет.
– А не до нас ли, – говорит, – ваше благородие, касательство иметь изволите?
– А что?
– Да так-с; если уж до нас, так нечем вам понапрасну себя беспокоить, не будет ли такая ваша милость, лучше зараз объявить, какое ваше на этот счет желание…
– Да желание мое будет большое, потому что и касательство у меня не малое.
– А как, например-с?
– Да хоша бы тебя в острог посадить.
Он смешался, даже помертвел весь и словно осина затрясся.
– Да, – говорит, – это точно касательство не малое… И документы, чай, у вашего благородия насчет этого есть?.. Вы меня, старика, не обессудьте, что я в эвтом деле сумнение имею: дело-то оно такое, что к нам словно очень уж близко подходит, да и Иван Демьяныч ничего нас о такой напасти не предуведомляли…
Я подал ему бумагу; он раза с три прочел ее.
– Больно уж мудрено что-то нонче пишут, – сказал он, кладя бумагу на стол, – слушали – ровно ничего не слушали, а приказали – ровно с колокольни слетели. Что ж это, ваше благородие, с нами такое будет?