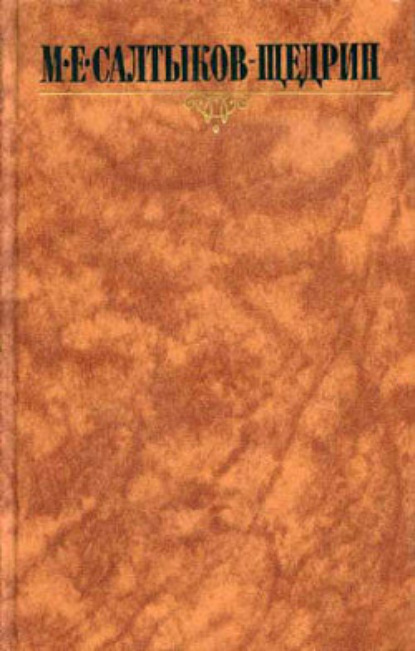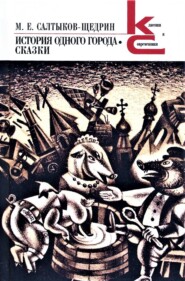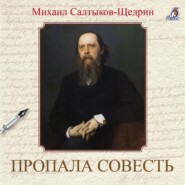По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Благонамеренные речи
Жанр
Серия
Год написания книги
1876
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это известие заставило меня вздрогнуть. Я все претерпения принял, я оставил семейство и занятия именно в твердой уверенности, что "мужички согласны" и что иго земельной собственности, наконец, перестанет тяготеть надо мной.
– Как так? – спросил я испуганным голосом.
– Не согласны, и шабаш!
– Да не сам ли же ты писал, что они "на всё согласны"?
– И были третьего дня согласны, а вчера одумали и несогласны сделались. Может, сегодня не будет ли чего.
– Господи! да который же раз я сюда езжу!
– И сто раз будете ездить – все то же будет!
– Заколдованное ваше место, что ли?
– Не заколдовано, а жить в нем надо. Минуту, значит, ловить.
Я как-то вдруг упал духом. Не далее как четверть часа тому назад я ехал по деревенской улице, видел пламя топящихся печей, видел мужиков, обряжающих дровни (некоторые даже шапки сняли, завидев меня), баб, спешащих к колодцу, и был уверен, что все это означает «согласны». И вдруг оказывается, что это-то именно и означает «несогласны», что все эти действия и признаки говорят о закоренелости и упорстве. Вот они совершают свой обычный дневной обряд, поднимаются от сна с полатей, с лавок и с пола, едут в поле за сеном и в лес за дровами, посылают баб за водою, задают корм лошадям и коровам, совершая все это рутинно, почти апатично, без всяких признаков закоренелости, – и, за всем тем, они упорствуют, они несогласны.
Кто измерит глубину пучины, называемой мужицким сердцем! кто сумеет урегулировать воздушные колебания, которые производят зыбь на поверхности этой пучины!
– Вы бы, сударь, ослобонили меня! – пустил вдруг шип по-змеиному Лукьяныч, покуда я, в бессилии, мысленно восклицал: "Да где же конец этим оттяжкам!"
Я уж не впервые слышу эту угрозу из уст Лукьяныча. Всякий раз, как я приезжаю в Чемезово, он считает своим долгом пронзить меня ею. Мало того: я отлично знаю, что он никогда не решится привести эту угрозу в действие, что с его стороны это только попытка уязвить меня, заставить воспрянуть духом, и ничего больше. И за всем тем, всякий раз, как я слышу эту просьбу «ослобонить», я невольно вздрагиваю при мысли о той беспомощности, в которой я найдусь, если вдруг, паче чаяния, стрясется надо мной такая беда.
– Опомнись, Лукьяныч! что ты говоришь! – обратился я к нему.
– Да ведь умру – надо же тогда будет другого искать!
– А ты прежде кончи!
Он уставился глазами в землю и пощипывал одной рукой бородку.
– Кончать надо… это так. И сам я вижу. Только кончим ли? Кабы вы настоящий «господин» были – это точно… Вот как березниковская барыня, например…
– Какая еще березниковская барыня?
– Порфирьева, Марья Петровна. Сестрица вам будет… чтой-то уж и забыли! А оне вечор гонца в Чемезово присылали, просили весточку им дать, как приедете.
– Машенька Величкина! кузина! Боже! да ведь и в самом деле она здесь!
Целый рой воспоминаний пронесся передо мной при этом имени. Я знал Машеньку еще шестнадцатилетнею девушкой, да и самому мне было в то время не более двадцати шести, двадцати семи лет. В то время я с особенным удовольствием езжал в Березники (владелец их приходился мне двоюродным дядей), верстах в двенадцати от Чемезова, в Березники, где была прекрасная барская усадьба, в которой царствовало безграничное гостеприимство. Но, кажется, меня всего больше влекла туда Машенька. Ее нельзя было назвать красивою, но она была удивительно миловидная девушка-ребенок. Именно ребенок. Маленькая, худенькая, почти прозрачная, точно бисквитная куколка. "Совсем-совсем куколка", говорили тогда об ней. В глазах у нее постоянно светилось какое-то горе, которое всего точнее можно назвать горем ни об чем; тонкие бровки были всегда сдвинуты; востренький подбородок, при малейшем недоумении, нервно вздрагивал; розовые губы, в минуты умиления, складывались сердечком. "Миленькая! миленькая!" – как-то естественно думалось при взгляде на нее.
Повторяю: я с особенным удовольствием посещал Березники и еще с большим удовольствием бродил с Машей по аллеям парка. Я помню, я говорил ей, что истина вечна, красота вечна, дух вечен, добро вечно. Что все остальное пройдет, как дурной сон, а эти четыре фактора человеческого существования навсегда пребудут незыблемыми и неприкосновенными. Что люди – братья, что они должны любить друг друга, что счастье есть удел всех. И что, за всем тем, нельзя обойтись без страданья, потому что страданье очищает человека. Я помню, как она с недоумением вслушивалась в мои слова, как глаза ее начинали светиться сугубым горем "ни об чем" и как она вдруг, в самом патетическом месте, пугливо прерывала меня.
– Голубчик! – говорила она мне. – Я знаю, ты будешь смеяться надо мной, но что же мне делать: мысль о вечности пугает меня!
– Какое ребячество! – разуверял я ее, – чего же тут пугаться! Что такое вечность? Вечность – это красота, это истина, это добро, это жизнь духа – все, взятое вместе и распространенное в бесконечность… Мысль об вечности должна не устрашать, а утешать нас.
– Да, это так… но вечность! вечность!
– Но почему же ты вдруг заговорила о вечности? – допытывался я.
– Ах, я не знаю… но иногда… Иногда, после разговоров с тобой, мне вдруг приходит мысль: что же такое мы? что такое вся наша жизнь?
И она так мило вздрагивала при этом, что я употреблял все усилия, чтоб утешить это прозрачное, маленькое существо.
Вообще она была большая трусиха. Бледнела при виде пробегающей мыши, бледнела, заслышав внезапный шум, но в особенности сильно трусила советника т – ской казенной палаты, Савву Силыча Порфирьева. Савва Силыч был рослый, тучный и рыхлый губернский сановник, с сероватым лицом, напоминавшим ноздреватый известковый камень. Он с пятнадцатилетнего возраста облюбовал Машеньку, точно предвидел, что из этого хрупкого материала можно выработать благонадежную мать семейства. Несколько раз он делал ей предложение, но Машенька все отказывала. Однако она делала эти отказы в такой форме, что Порфирьев не только не отчаялся в успехе, но продолжал по-прежнему дружески посещать дом Величкиных. Она просто говорила: боюсь.
– А боитесь, барышня, так со временем привыкнете! – любезно возражал Савва Силыч, перебирая ногами на манер влюбленного петуха, – спешить нам нечего, я подожду-с!
И, обращаясь к Петру Матвеичу Величкину, тут же, при ней же, прибавлял:
– Ничего-с! это в них девичье-с! Спешить нечего-с! Оне – в цвету-с, я – в поре-с… подождем-с!
И дождался-таки, хотя я в то время готов был сто против одного держать пари, что он никогда ничего не дождется и что никогда к грубому ноздреватому известковому камню не прикоснется нежный, хрупкий бисквит.
С тех пор прошло двадцать лет. Я совершенно потерял Машу из вида и только мельком слышал, что надежды Порфирьева осуществились и что «молодые» поселились в губернском городе Т. Я даже совершенно забыл о существовании Березников и никогда не задавался вопросом, страдает ли Маша боязнью вечности, как в былые времена. Теперь я узнал от Лукьяныча, что она два года тому назад овдовела и вновь переселилась в родные Березники; что у нее четверо детей, из которых старшей дочке – десять лет; что Березники хотя и не сохранили вполне прежнего роскошного, барского вида, но, во всяком случае, представляют ценность очень солидную; что, наконец, сама Марья Петровна…
* * *
На другой день, часу во втором, я подъезжал к Березникам. В противоположность чемезовскому и другим «дворянским гнездам», старинная березниковская усадьба и в настоящее время смотрела бодро, почти уютно. Впрочем, из всех свидетелей прежней барской жизни на широкую руку оставались только громадный дом, оранжереи и парк. Но они не были в забросе, как в большей части соседних имений, а, напротив того, с первого же взгляда можно было безошибочно сказать, что здесь живется тепло и удобно. Все лишнее, оказавшееся после упразднения крепостного права обременительным, было сломано и снесено. Я помню, так называемый красный двор был загроможден флигелями, людскими, амбарами, погребами; теперь на этом самом месте был распланирован довольно обширный сад, который посредине прорезывала дорога, ведшая к барскому дому. Все службы были сгруппированы в одном месте, через дорогу, и бросались в глаза новыми бревенчатыми стенами. Вероятно, еще покойный Савва Силыч начал и привел к окончанию все эти преобразования, однако, и по смерти его, заботливая рука поддерживала их.
Машенька выбежала ко мне в переднюю со словами:
– Ах, родной мой… как давно! как давно!
– Машенька! ты ли… да, это ты! – в свою очередь, восклицал я.
Я сжимал ее руками за локти, словно желая приподнять, и с любовью разглядывал ее. Она почти совсем не изменилась. Передо мной стояла все та же шестнадцатилетняя Машенька, которая когда-то так "боялась вечности". Маленькая, худенькая, прозрачная, "совсем-совсем куколка", несмотря на то, что ей было уже за тридцать пять лет. В глазах по-прежнему светилось горе "ни об чем", по-прежнему вздрагивал востренький подбородок, губы, от внутреннего умиления, сложились сердечком, бровки были сдвинуты. В ее черных, как вороново крыло, волосах не было заметно ни одной сединки. Ни единой морщины на лбу и около глаз. Словом сказать, для нее как будто не было времени, тех двадцати лет, которые так придавили и доконали меня. Больной всеми старческими недугами, молча любовался я ею, внутренно переживая далекое прошлое и с каким-то удивлением встречаясь лицом к лицу с своею молодостью, тою бесплодною молодостью, которая не дала ни привычки к труду, ни предусмотрительности, ни выносливости, а только научила "нас возвышающим обманам".
– Да, друг мой, давно я тебя не видала, – продолжала она, вводя меня в гостиную и усаживая на диван подле себя, – многое с тех пор изменилось, а, наконец, богу угодно было испытать меня и последним ударом: неделю тому назад минуло два года, как отлетел наш ангел!
Высказавши это, она на минуту отвернула от меня лицо; вероятно, на ее глаза навернулись две крошечные слезки, которые она хотела незаметно для меня смигнуть.
– Да, слышал… Савва Силыч… Впрочем, я знал его так мало…
– Ты можешь даже сказать, что совсем не знал его. Ах, мой друг, как мы были в то время легкомысленны! Помнишь, как я боялась его! И скажу тебе откровенно, что даже после выхода замуж я года три еще боялась его; все казалось: ах, какой он большой! Глупенькая ведь я была. И представь себе: никогда он даже вида не подал, что это для него обидно. Бывало, обнимет меня рукой, а я вся дрожу. Другой бы забранил, а он, напротив, еще приголубит: "Ничего, говорит, привыкнешь! нам спешить некуда!" И точно: потихоньку да помаленьку, я и сама наконец стала удивляться, что можно было находить в нем страшного!
– Привыкла?
– Нет, не то что привыкла, а так как-то. Я не принуждала себя, а просто само собой сделалось. Терпелив он был. Вот и хозяйством я занялась – сама не знаю как. Когда я у папеньки жила, ничто меня не интересовало – помнишь? Любила я, правда, помечтать, а спроси, об чем – и сама сказать не сумею. А тут вдруг…
Я не мог удержаться, чтоб вновь не взять ее за руки. Да, это она! глазки, полные грустного недоумения, бровки сдвинуты, губки вот-вот сейчас сложатся сердечком… миленькая! миленькая! И я невольно подумал: "Возьми теперь эту тридцатисемилетнюю девочку за руку и веди ее, куда тебе хочется. Вдруг – она очутится в лесу, вдруг – среди долины ровныя, вдруг – сделается хозяйкой и матерью, вдруг – проникнется страстью к балам и пикникам. И повсюду одинаково грустно-недоумело будут смотреть ее глазки, повсюду останутся сдвинутыми ее хорошенькие бровки, а губки, в данную минуту, сложатся сердечком. И что всего важнее, нигде она не пропадет, ничем ее не собьешь, кроме разве, что найдется и еще кто-нибудь и тоже возьмет ее за ручку, и тоже поведет, куда ему хочется".
– А какой христианин он был! – лепетала она, – и какой христианской кончины удостоил его бог!
– Болен он был?