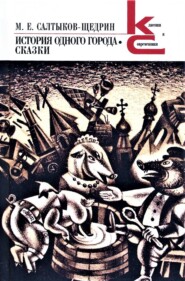По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
За рубежом
Жанр
Серия
Год написания книги
1881
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Слово – серебро, молчание – золото; так гласит стародавняя мудрость. Не потому молчание приравнивается злату, чтоб оно представляло невесть какую драгоценность, а потому что, при известных условиях, другого, более правильного, выхода нет. Когда на сцену выступает практическое сердцеведение, то я, прежде всего, рассуждаю так: вероятно, в данную минуту обстоятельства так сложились, что без этого обойтись невозможно. Но в то же время не могу же я заглушить в своем сердце голос той высшей человеческой правды, который удостоверяет, что подобные условии жизни ни нормальными, ни легко переживаемыми назвать не приходится. И вот, когда очутишься между двумя такими голосами, из которых один говорит: "правильно!", а другой: "правильно, черт возьми, но несносно!", вот тогда-то и приходит на ум: а что, ежели я до времени помолчу! И помолчу, потому что и без меня охотников говорить достаточно…
Тяжелое наступило ныне время, господа: время отравления особого рода ядом, который я назову газетным. Ах, какое это неслыханное мучение, когда газетные трихины играть начинают! Ползают, суматошатся, впиваются, сыскивают, точат. Наглотаешься с утра этого яду, и потом целый день как отравленный ходишь…
Какой же, однако, выход из этого лабиринта двоесловий? Неужто только один и есть: помолчу?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но положение мое ухудшилось еще больше, когда, наскучив бесплодным пребыванием в мире конкретностей, я самонадеянно попытался сизым орлом возлететь в сферу отвлеченностей. В старину я делывал подобные полеты нередко. Вместе с прочими сверстниками я охотно баловал себя экскурсиями в ту область, где предполагается «невидимых вещей обличение», и, помнится, экскурсии эти доставляли мне живейшее удовольствие. Не скажу, чтоб я видел эту область вполне отчетливо, но, во всяком случае, созерцание ее возбуждало во мне не страх, а положительно сладостное чувство. Вообще тогда жилось дерзновеннее (я, конечно, имею в виду только себя и своих сверстников), хотя не могу не сознаться, что основной жизненный фонд все-таки был поражен непоследовательностью, граничащей с легкомыслием. Две жизни шли рядом: одна, так сказать, pro domo,[159 - для себя] другая – страха ради иудейска, то есть в форме оправдательного документа перед начальством. Сидишь, бывало, дома и всем существом, так сказать, уходишь в область «невидимых вещей обличения». И вдруг бьет урочный час – беги в канцелярию. Надел штаны, вицмундир, и через четверть часа находишься уж совсем в другой области – в области «видимых вещей утверждения». Натурально, и там и тут – вопросы совсем разные. В первой области – вопрос о том, позади ли нужно искать золотого века или впереди; во второй – вопрос об устройстве золотых веков при помощи губернских правлений и управ благочиния, на точном основании изданных на сей предмет узаконений. Посидишь, поскребешь пером, смотришь, опять бьет урочный час. Снова бежишь домой, переменяешь штаны, надеваешь сюртук или халат и опять попадаешь в область «невидимых вещей обличения». Так и прошла молодость…
Нынешнему поколению может показаться не совсем складною эта беготня из одной области в другую, но тогда – жилось и неловкостей не ощущалось.
И вот теперь, спустя много-много лет, благодаря случайному одиночеству, точно струя молодости на меня хлынула. Дай, думаю, побегаю, как в старину бывало.
Однако бегать не привелось, ибо как ни ходко плыли навстречу молодые воспоминания, а все-таки пришлось убедиться, что и ноги не те, и кровь в жилах не та. Да и вопросы, которые принесли эти воспоминания… уж, право, не знаю, как и назвать их. Одни, более снисходительные, называют их несвоевременными, другие, несомненно злобные, – прямо вредными. Что же касается лично до меня… А впрочем, судите сами.
Вопрос первый: утешает ли история? Лет сорок тому назад – я знаю это наверное – я, по сущей правде, ответил бы: да, утешает. А нынче, что я скажу? Ведь я даже мыслить принципиально, без вводных примесей, разучился. Начну с мрака времен и, только что забрезжит свет, сейчас наткнусь либо на Пинегу с Вилюем, либо на устав о пресечении, да тут и загрязну. Именно это самое и теперь случилось. Едва выглянул на меня вопрос, едва приступил я к его расчленению, как вдруг откуда ни взялся генерал-майор Отчаянный и так сверкнул очами, что я сразу опешил. Нет, уж лучше я завтра… – смущенно ответил я сам себе и в ту же минуту поспешил с таким расчетом юркнуть, чтоб и ушей моих не было видно.
Вопрос второй: можно ли жить с народом, опираясь на оный? Сорок лет тому назад я наверное ответил бы: не только можно, но иначе и жить нельзя. Нынче… Только что начну я рассказывать и доказывать "от принципа", что человеческая деятельность, вне сферы народа, беспредметна и бессмысленна, как вдруг во всем моем существе "шкура" заговорит. Выглянут молодцы из Охотного ряда, сотрудники с Сенной площади
и, наконец, целая масса аферистов-бандитов, вроде Наполеона III, который ведь тоже возглашал: tout pour le peuple et par le peuple…[160 - все для народа и через народ] И, разумеется, в заключение: Нет, уж лучше я завтра…
Вопрос третий: можно ли жить такою жизнью, при которой полагается есть пирог с грибами исключительно затем, чтоб держать язык за зубами? Сорок лет тому назад я опять-таки наверное ответил бы: нет, так жить нельзя. А теперь? – теперь: нет, уж я лучше завтра…
Словом сказать, на целую уйму вопросов пытался я дать ответы, но увы! ни конкретности, ни отвлеченности – ничто не будило обессилевшей мысли. Мучился я, мучился, и чуть было не крикнул: водки! но, к счастию, в Париже этот напиток не столь общедоступный, чтоб можно было, по произволению, утешаться им…
Так я и лег спать, вынеси из двухдневной тоски одну истину: что, при известных условиях жизни, запой должен быть рассматриваем не столько с точки зрения порочности воли, сколько в смысле неудержимой потребности огорченной души…
Мой сон был тревожный, больной. Сначала мерещились какие-то лишенные связи обрывки, но мало-помалу образовалось нечто связное, целый colloquium,[161 - разговор] героиней которого была… свинья! Однако ж этот colloquium настолько любопытен, что я считаю нелишним поделиться им с читателем, в том виде, в каком сохранила моя память.
ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ СВИНЬЯ,
ИЛИ
РАЗГОВОР СВИНЬИ С ПРАВДОЮ
Прерванная сцена
Действующие лица:
Свинья, разъевшееся животное; щетина ощерилась и блестит вследствие беспрерывного обхождения с хлевной жидкостью.
Правда, особа, которой, по штату, полагается быть вечно юною, но уже изрядно побитая. Прикрыта, по распоряжению начальства, лохмотьями, сквозь которые просвечивает классический полный мундир, то есть нагота.
Действие происходит в хлеву.
Свинья (кобенится). Правда ли, сказывают, на небе-де солнышко светит?
Правда. Правда, свинья.
Свинья. Так ли, полно? Никаких я солнцев, живучи в хлеву, словно не видывала?
Правда. Это оттого, свинья, что когда природа создавала тебя, то, создаваючи, приговаривала: не видать тебе, свинья, солнца красного!
Свинья. Ой ли? (Авторитетно.) А по-моему, так все эти солнцы – одно лжеучение… ась?
Правда безмолвствует и сконфуженно поправляет лохмотья. В публике раздаются голоса: правда твоя, свинья! лжеучения! лжеучения!
Свинья (продолжает кобениться). Правда ли, будто в газетах печатают: свобода-де есть драгоценнейшее достояние человеческих обществ?
Правда. Правда, свинья.
Свинья. А по-моему, так и без того у нас свободы по горло. Вот я безотлучно в хлеву живу – и горюшка мало! Что мне! Хочу – рылом в корыто уткнусь, хочу – в навозе кувыркаюсь… какой еще свободы нужно! (Авторитетно.) Изменники вы, как я на вас погляжу… ась?
Правда (вновь старается прикрыть наготу. Публика гогочет: правда твоя, свинья! Изменники! изменники! Некоторые из публики требуют, чтоб Правду отвели в участок. Свинья самодовольно хрюкает, сознавая себя на высоте положения.
Свинья. Зачем отводить в участок? Ведь там для проформы подержат, да и опять выпустят. (Ложится в навоз и впадает в сантиментальность.) Ах, нынче и участковые одним языком с фельетонистами говорят! Намеднись я в одной газете вычитала: оттого-де у нас слабо, что законы только для проформы пишутся…
Правда. Так ты и читаешь, свинья?
Свинья. Почитываю. Только понимаю не так, как написано… Как хочу, так и понимаю!.. (К публике.) Так вот что, други! в участок мы ее не отправим, а своими средствами… Сыскивать ее станем… сегодня вопросец зададим, а завтра – два… (Задумывается.) Сразу не покончим, а постепенно чавкать будем… (Сопя, подходит к Правде, хватает ее за икру и начинает чавкать.) Вот так!
Правда (пожимается от боли; публика грохочет. Раздаются возгласы: ай да свинья! вот так затейница!
Свинья. Что? сладко? Ну, будет с тебя! (Перестает чавкать.) Теперь сказывай: где корень зла?
Правда (растерянно). Корень зла, свинья? корень зла… корень зла… (Решительно и неожиданно для самой себя.) В тебе, свинья!
Свинья (рассердилась). А! так ты вот как поговариваешь! Ну, теперь только держись! Правда ли, сказывала ты: общечеловеческая-де правда против околоточно-участковой не в пример превосходнее?
Правда (стараясь изловчиться). Хотя при известных условиях жизни, невозможно отвергать…
Свинья. Нет, ты хвостом-то не верти! Мы эти момото слыхивали! Сказывай прямо: точно ли, по мнению твоему, есть какая-то особенная правда, которая против околоточной превосходнее?
Правда. Ах, свинья, как изменнически подло.
Свинья. Ладно; об этом мы после поговорим. (Наступает плотнее и плотнее.) Сказывай дальше. Правда ли, что ты говорила: законы-де одинаково всех должны обеспечивать, потому-де что, в противном случае, человеческое общество превратится в хаотический сброд враждующих элементов… Об каких это законах ты говорила? По какому поводу и кому в поучение, сударыня, разглагольствовала? ась?
Правда. Ах, свинья!
Свинья. Нечего мне «свиньей»-то в рыло тыкать. Знаю я и сама, что свинья. Я – Свинья, а ты – Правда… (Хрюканье свиньи звучит иронией.) А ну-тко, свинья, погложи-ка правду! (Начинает чавкать. К публике.) Любо, что ли, молодцы?
Правда корчится от боли. Публика приходит в неистовство. Слышится со всех сторон: Любо! Нажимай, свинья, нажимай! Гложи ее! чавкай! Ишь ведь, распостылая, еще разговаривать вздумала!
На этом colloquium был прерван. Далее я ничего не мог разобрать, потому что в хлеву поднялся такой гвалт, что до слуха моего лишь смутно долетало: «правда ли, что в университете…», «правда ли, что на женских курсах…» В одно мгновение ока Правда была опутана целой сетью дурацки предательских подвохов, причем всякая попытка распутать эту сеть встречалась чавканьем свиньи и грохотом толпы: давай, братцы, ее своим судом судить… народным!!
Я лежал как скованный, в ожидании, что вот-вот сейчас и меня начнут чавкать. Я, который всю жизнь в легкомысленной самоуверенности повторял: бог не попустит, свинья не съест! – я вдруг во все горло заорал: съест свинья! съест!
В эту минуту сильный стук в дверь заставил меня проснуться.
Тяжелое наступило ныне время, господа: время отравления особого рода ядом, который я назову газетным. Ах, какое это неслыханное мучение, когда газетные трихины играть начинают! Ползают, суматошатся, впиваются, сыскивают, точат. Наглотаешься с утра этого яду, и потом целый день как отравленный ходишь…
Какой же, однако, выход из этого лабиринта двоесловий? Неужто только один и есть: помолчу?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но положение мое ухудшилось еще больше, когда, наскучив бесплодным пребыванием в мире конкретностей, я самонадеянно попытался сизым орлом возлететь в сферу отвлеченностей. В старину я делывал подобные полеты нередко. Вместе с прочими сверстниками я охотно баловал себя экскурсиями в ту область, где предполагается «невидимых вещей обличение», и, помнится, экскурсии эти доставляли мне живейшее удовольствие. Не скажу, чтоб я видел эту область вполне отчетливо, но, во всяком случае, созерцание ее возбуждало во мне не страх, а положительно сладостное чувство. Вообще тогда жилось дерзновеннее (я, конечно, имею в виду только себя и своих сверстников), хотя не могу не сознаться, что основной жизненный фонд все-таки был поражен непоследовательностью, граничащей с легкомыслием. Две жизни шли рядом: одна, так сказать, pro domo,[159 - для себя] другая – страха ради иудейска, то есть в форме оправдательного документа перед начальством. Сидишь, бывало, дома и всем существом, так сказать, уходишь в область «невидимых вещей обличения». И вдруг бьет урочный час – беги в канцелярию. Надел штаны, вицмундир, и через четверть часа находишься уж совсем в другой области – в области «видимых вещей утверждения». Натурально, и там и тут – вопросы совсем разные. В первой области – вопрос о том, позади ли нужно искать золотого века или впереди; во второй – вопрос об устройстве золотых веков при помощи губернских правлений и управ благочиния, на точном основании изданных на сей предмет узаконений. Посидишь, поскребешь пером, смотришь, опять бьет урочный час. Снова бежишь домой, переменяешь штаны, надеваешь сюртук или халат и опять попадаешь в область «невидимых вещей обличения». Так и прошла молодость…
Нынешнему поколению может показаться не совсем складною эта беготня из одной области в другую, но тогда – жилось и неловкостей не ощущалось.
И вот теперь, спустя много-много лет, благодаря случайному одиночеству, точно струя молодости на меня хлынула. Дай, думаю, побегаю, как в старину бывало.
Однако бегать не привелось, ибо как ни ходко плыли навстречу молодые воспоминания, а все-таки пришлось убедиться, что и ноги не те, и кровь в жилах не та. Да и вопросы, которые принесли эти воспоминания… уж, право, не знаю, как и назвать их. Одни, более снисходительные, называют их несвоевременными, другие, несомненно злобные, – прямо вредными. Что же касается лично до меня… А впрочем, судите сами.
Вопрос первый: утешает ли история? Лет сорок тому назад – я знаю это наверное – я, по сущей правде, ответил бы: да, утешает. А нынче, что я скажу? Ведь я даже мыслить принципиально, без вводных примесей, разучился. Начну с мрака времен и, только что забрезжит свет, сейчас наткнусь либо на Пинегу с Вилюем, либо на устав о пресечении, да тут и загрязну. Именно это самое и теперь случилось. Едва выглянул на меня вопрос, едва приступил я к его расчленению, как вдруг откуда ни взялся генерал-майор Отчаянный и так сверкнул очами, что я сразу опешил. Нет, уж лучше я завтра… – смущенно ответил я сам себе и в ту же минуту поспешил с таким расчетом юркнуть, чтоб и ушей моих не было видно.
Вопрос второй: можно ли жить с народом, опираясь на оный? Сорок лет тому назад я наверное ответил бы: не только можно, но иначе и жить нельзя. Нынче… Только что начну я рассказывать и доказывать "от принципа", что человеческая деятельность, вне сферы народа, беспредметна и бессмысленна, как вдруг во всем моем существе "шкура" заговорит. Выглянут молодцы из Охотного ряда, сотрудники с Сенной площади
и, наконец, целая масса аферистов-бандитов, вроде Наполеона III, который ведь тоже возглашал: tout pour le peuple et par le peuple…[160 - все для народа и через народ] И, разумеется, в заключение: Нет, уж лучше я завтра…
Вопрос третий: можно ли жить такою жизнью, при которой полагается есть пирог с грибами исключительно затем, чтоб держать язык за зубами? Сорок лет тому назад я опять-таки наверное ответил бы: нет, так жить нельзя. А теперь? – теперь: нет, уж я лучше завтра…
Словом сказать, на целую уйму вопросов пытался я дать ответы, но увы! ни конкретности, ни отвлеченности – ничто не будило обессилевшей мысли. Мучился я, мучился, и чуть было не крикнул: водки! но, к счастию, в Париже этот напиток не столь общедоступный, чтоб можно было, по произволению, утешаться им…
Так я и лег спать, вынеси из двухдневной тоски одну истину: что, при известных условиях жизни, запой должен быть рассматриваем не столько с точки зрения порочности воли, сколько в смысле неудержимой потребности огорченной души…
Мой сон был тревожный, больной. Сначала мерещились какие-то лишенные связи обрывки, но мало-помалу образовалось нечто связное, целый colloquium,[161 - разговор] героиней которого была… свинья! Однако ж этот colloquium настолько любопытен, что я считаю нелишним поделиться им с читателем, в том виде, в каком сохранила моя память.
ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ СВИНЬЯ,
ИЛИ
РАЗГОВОР СВИНЬИ С ПРАВДОЮ
Прерванная сцена
Действующие лица:
Свинья, разъевшееся животное; щетина ощерилась и блестит вследствие беспрерывного обхождения с хлевной жидкостью.
Правда, особа, которой, по штату, полагается быть вечно юною, но уже изрядно побитая. Прикрыта, по распоряжению начальства, лохмотьями, сквозь которые просвечивает классический полный мундир, то есть нагота.
Действие происходит в хлеву.
Свинья (кобенится). Правда ли, сказывают, на небе-де солнышко светит?
Правда. Правда, свинья.
Свинья. Так ли, полно? Никаких я солнцев, живучи в хлеву, словно не видывала?
Правда. Это оттого, свинья, что когда природа создавала тебя, то, создаваючи, приговаривала: не видать тебе, свинья, солнца красного!
Свинья. Ой ли? (Авторитетно.) А по-моему, так все эти солнцы – одно лжеучение… ась?
Правда безмолвствует и сконфуженно поправляет лохмотья. В публике раздаются голоса: правда твоя, свинья! лжеучения! лжеучения!
Свинья (продолжает кобениться). Правда ли, будто в газетах печатают: свобода-де есть драгоценнейшее достояние человеческих обществ?
Правда. Правда, свинья.
Свинья. А по-моему, так и без того у нас свободы по горло. Вот я безотлучно в хлеву живу – и горюшка мало! Что мне! Хочу – рылом в корыто уткнусь, хочу – в навозе кувыркаюсь… какой еще свободы нужно! (Авторитетно.) Изменники вы, как я на вас погляжу… ась?
Правда (вновь старается прикрыть наготу. Публика гогочет: правда твоя, свинья! Изменники! изменники! Некоторые из публики требуют, чтоб Правду отвели в участок. Свинья самодовольно хрюкает, сознавая себя на высоте положения.
Свинья. Зачем отводить в участок? Ведь там для проформы подержат, да и опять выпустят. (Ложится в навоз и впадает в сантиментальность.) Ах, нынче и участковые одним языком с фельетонистами говорят! Намеднись я в одной газете вычитала: оттого-де у нас слабо, что законы только для проформы пишутся…
Правда. Так ты и читаешь, свинья?
Свинья. Почитываю. Только понимаю не так, как написано… Как хочу, так и понимаю!.. (К публике.) Так вот что, други! в участок мы ее не отправим, а своими средствами… Сыскивать ее станем… сегодня вопросец зададим, а завтра – два… (Задумывается.) Сразу не покончим, а постепенно чавкать будем… (Сопя, подходит к Правде, хватает ее за икру и начинает чавкать.) Вот так!
Правда (пожимается от боли; публика грохочет. Раздаются возгласы: ай да свинья! вот так затейница!
Свинья. Что? сладко? Ну, будет с тебя! (Перестает чавкать.) Теперь сказывай: где корень зла?
Правда (растерянно). Корень зла, свинья? корень зла… корень зла… (Решительно и неожиданно для самой себя.) В тебе, свинья!
Свинья (рассердилась). А! так ты вот как поговариваешь! Ну, теперь только держись! Правда ли, сказывала ты: общечеловеческая-де правда против околоточно-участковой не в пример превосходнее?
Правда (стараясь изловчиться). Хотя при известных условиях жизни, невозможно отвергать…
Свинья. Нет, ты хвостом-то не верти! Мы эти момото слыхивали! Сказывай прямо: точно ли, по мнению твоему, есть какая-то особенная правда, которая против околоточной превосходнее?
Правда. Ах, свинья, как изменнически подло.
Свинья. Ладно; об этом мы после поговорим. (Наступает плотнее и плотнее.) Сказывай дальше. Правда ли, что ты говорила: законы-де одинаково всех должны обеспечивать, потому-де что, в противном случае, человеческое общество превратится в хаотический сброд враждующих элементов… Об каких это законах ты говорила? По какому поводу и кому в поучение, сударыня, разглагольствовала? ась?
Правда. Ах, свинья!
Свинья. Нечего мне «свиньей»-то в рыло тыкать. Знаю я и сама, что свинья. Я – Свинья, а ты – Правда… (Хрюканье свиньи звучит иронией.) А ну-тко, свинья, погложи-ка правду! (Начинает чавкать. К публике.) Любо, что ли, молодцы?
Правда корчится от боли. Публика приходит в неистовство. Слышится со всех сторон: Любо! Нажимай, свинья, нажимай! Гложи ее! чавкай! Ишь ведь, распостылая, еще разговаривать вздумала!
На этом colloquium был прерван. Далее я ничего не мог разобрать, потому что в хлеву поднялся такой гвалт, что до слуха моего лишь смутно долетало: «правда ли, что в университете…», «правда ли, что на женских курсах…» В одно мгновение ока Правда была опутана целой сетью дурацки предательских подвохов, причем всякая попытка распутать эту сеть встречалась чавканьем свиньи и грохотом толпы: давай, братцы, ее своим судом судить… народным!!
Я лежал как скованный, в ожидании, что вот-вот сейчас и меня начнут чавкать. Я, который всю жизнь в легкомысленной самоуверенности повторял: бог не попустит, свинья не съест! – я вдруг во все горло заорал: съест свинья! съест!
В эту минуту сильный стук в дверь заставил меня проснуться.