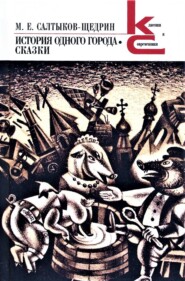По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сказки
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однако ж глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них.
Все изменилось с этих пор в Глупове. Бригадир, в полном мундире, каждое утро бегал по лавкам и все тащил, все тащил. Даже Аленка начала походя тащить, и вдруг ни с того ни с сего стала требовать, чтоб ее признавали не за ямщичиху, а за поповскую дочь.
Но этого мало: самая природа перестала быть благосклонною к глуповцам. «Новая сия Иезавель[62 - По библейскому преданию, Иезавель, жена царя Израиля Ахава, навлекла своим греховным поведением гнев бога на израильский народ.], – говорит об Аленке летописец, – навела на наш город сухость». С самого вешнего Николы, с той поры, как начала входить вода в межень, и вплоть до Ильина дня не выпало ни капли дождя. Старожилы не могли запомнить ничего подобного и не без основания приписывали это явление бригадирскому грехопадению. Небо раскалилось и целым ливнем зноя обдавало все живущее; в воздухе замечалось словно дрожанье и пахло гарью; земля трескалась и сделалась тверда, как камень, так что ни сохой, ни даже заступом взять ее было невозможно; травы и всходы огородных овощей поблекли; рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано, но была так редка, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян; яровые совсем не взошли, и засеянные ими поля стояли черные, словно смоль, удручая взоры обывателей безнадежной наготою; даже лебеды не родилось; скотина металась, мычала и ржала; не находя в поле пищи, она бежала в город и наполняла улицы. Людишки словно осунулись и ходили с понурыми головами; одни горшечники радовались вёдру, но и те раскаялись, как скоро убедились, что горшков много, а варева нет.
Однако глуповцы не отчаивались, потому что не могли еще обнять всей глубины ожидавшего их бедствия. Покуда оставался прошлогодний запас, многие, по легкомыслию, пили, ели и задавали банкеты, как будто и конца запасу не предвидится. Бригадир ходил в мундире по городу и строго-настрого приказывал, чтоб людей, имеющих «унылый вид», забирали на съезжую и представляли к нему. Дабы ободрить народ, он поручил откупщику устроить в загородной роще пикник и пустить фейерверк. Пикник сделали, фейерверк сожгли, «но хлеба через то людишкам не предоставили». Тогда бригадир призвал к себе «излюбленных» и велел им ободрять народ. Стали «излюбленные» ходить по соседям и ни одного унывающего не пропустили, чтоб не утешить.
– Мы люди привышные! – говорили одни, – мы претерпеть мо?гим. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить – мы и тогда противного слова не молвим!
– Это что говорить! – прибавляли другие, – нам терпеть можно! потому мы знаем, что у нас есть начальники!
– Ты думаешь как? – ободряли третьи, – ты думаешь, начальство-то спит? Нет, брат, оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит!
Но когда убрались с сеном, то оказалось, что животы[63 - Животы – здесь: домашний скот.] кормить будет нечем; когда окончилось жнитво, то оказалось, что и людишкам кормиться тоже нечем. Глуповцы испугались и начали похаживать к бригадиру на двор.
– Так как же, господин бригадир, насчет хлебца-то? похлопочешь? – спрашивали они его.
– Хлопочу, братики, хлопочу! – отвечал бригадир.
– То-то; уж ты постарайся!
В конце июля полили бесполезные дожди, а в августе людишки начали помирать, потому что все, что было, приели. Придумывали, какую такую пищу стряпать, от которой была бы сытость; мешали муку с ржаной резкой, но сытости не было; пробовали, не будет ли лучше с толченой сосновой корой, но и тут настоящей сытости не добились.
– Хоть и точно, что от этой пищи словно кабы живот наедается, однако, братцы, надо так сказать: самая эта еда пустая! – говорили промеж себя глуповцы.
Базары опустели, продавать было нечего, да и некому, потому что город обезлюдел. «Кои померли, – говорит летописец, – кои, обеспамятев, разбежались кто куда». А бригадир между тем все не прекращал своих беззаконий и купил Аленке новый драдедамовый[64 - Драдедамовый – сделанный из особого тонкого шерстяного драпа (от франц. «drap des dames»).] платок. Сведавши об этом, глуповцы опять встревожились и целой громадой ввалили на бригадиров двор.
– А ведь это поди ты не ладно, бригадир, делаешь, что с мужней женой уводом живешь! – говорили они ему, – да и не затем ты сюда от начальства прислан, чтоб мы, сироты, за твою дурость напасти терпели!
– Потерпите, братики! Всего вдоволь будет! – вертелся бригадир.
– То-то! мы терпеть согласны! Мы люди привышные! А только ты, бригадир, об этих наших словах подумай, потому не ровён час: терпим-терпим, а тоже и промеж нас глупого человека не мало найдется! Как бы чего не сталось!
Громада разошлась спокойно, но бригадир крепко задумался. Видит и сам, что Аленка всему злу заводчица, а расстаться с ней не может. Послал за батюшкой, думая в беседе с ним найти утешение, но тот еще больше обеспокоил, рассказавши историю об Ахаве и Иезавели.
– И доколе не растерзали ее псы, весь народ изгиб до единого! – заключил батюшка свой рассказ.
– Очнись, батя! уж ли ж Аленку собакам отдать! – испугался бригадир.
– Не к тому о сем говорю! – объяснился батюшка, – однако и о нижеследующем не излишне размыслить: паства у нас равнодушная, доходы малые, провизия дорогая… где пастырю-то взять, господин бригадир?
– Ох! за грехи меня, старого, бог попутал! – простонал бригадир и горько заплакал.
И вот сел он опять за свое писанье; писал много, писал всюду.
Рапортовал так: коли хлеба не имеется, так по крайности пускай хоть команда прибудет. Но ни на какое свое писание ни из какого места ответа не удостоился.
А глуповцы с каждым днем становились назойливее и назойливее.
– Что? получил, бригадир, ответ? – спрашивали они его с неслыханной наглостью.
– Не получил, братики! – отвечал бригадир.
Глуповцы смотрели ему «нелепым обычаем» в глаза и покачивали головами.
– Гунявый ты! вот что! – укоряли они его, – оттого тебе, гаденку, и не отписывают! Не стоишь!
Одним словом, вопросы глуповцев делались из рук вон щекотливыми. Наступила такая минута, когда начинает говорить брюхо, против которого всякие резоны и ухищрения оказываются бессильными.
– Да, убеждениями с этим народом ничего не поделаешь! – рассуждал бригадир, – тут не убеждения требуются, а одно из двух: либо хлеб, либо… команда!
Как и все добрые начальники, бригадир допускал эту последнюю идею лишь с прискорбием; но мало-помалу он до того вник в нее, что не только смешал команду с хлебом, но даже начал желать первой пуще последнего.
Встанет бригадир утром раненько, сядет к окошку и все прислушивается, не раздастся ли откуда: туру-туру?
Рассыпьтесь, молодцы!
За камни, за кусты!
По два в ряд!
– Нет! не слыхать!
– Словно и бог-то наш край позабыл! – молвит бригадир.
А глуповцы между тем всё жили, всё жили.
Молодые все до одного разбежались. «Бежали-бежали, – говорит летописец, – многие, ни до чего не добежав, венец приняли[65 - Венец принять – умереть мученической смертью.]; многих изловили и заключили в узы; сии почитали себя благополучными». Дома остались только старики да малые дети, у которых не было ног, чтоб бежать. На первых порах оставшимся полегчало, потому что доля бежавших несколько увеличила долю остальных. Таким образом прожили еще с неделю, но потом опять стали помирать. Женщины выли, церкви переполнились гробами, трупы же людей худородных валялись по улицам неприбранные. Трудно было дышать в зараженном воздухе; стали опасаться, чтоб к голоду не присоединилась еще чума, и для предотвращения зла, сейчас же составили комиссию, написали проект об устройстве временной больницы на десять кроватей, нащипали корпии и послали во все места по рапорту. Но, несмотря на столь видимые знаки начальственной попечительности, сердца обывателей уже ожесточились. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь не показал бригадиру фигу, не назвал его «гунявым», «гаденком» и проч.
К довершению бедствия глуповцы взялись за ум. По вкоренившемуся исстари крамольническому обычаю, собрались они около колокольни, стали судить да рядить и кончили тем, что выбрали из среды своей ходока – самого древнего в целом городе человека, Евсеича. Долго кланялись и мир и Евсеич друг другу в ноги: первый просил послужить, второй просил освободить. Наконец мир сказал:
– Сколько ты, Евсеич, на свете годов живешь, сколько начальников видел, а все жив состоишь!
Тогда и Евсеич не вытерпел.
– Много годов я выжил! – воскликнул он, внезапно воспламенившись. – Много начальников видел! Жив есмь!
И, сказавши это, заплакал. «Взыграло древнее сердце его, чтобы послужить», – прибавляет летописец. И сделался Евсеич ходоком и положил в сердце своем искушать бригадира до трех раз.
– Ведомо ли тебе, бригадиру, что мы здесь целым городом, сироты, помираем? – так начал он свое первое искушение.
– Ведомо, – ответствовал бригадир.
– И то ведомо ли тебе, от чьего бездельного воровства такой обычай промеж нас учинился?
– Нет, не ведомо.
Первое искушение кончилось. Евсеич воротился к колокольне и отдал миру подробный отчет. «Бригадир же, видя таковое Евсеича ожесточение, весьма убоялся», – говорит летописец.
Через три дня Евсеич явился к бригадиру во второй раз, «но уже прежний твердый вид утерял».