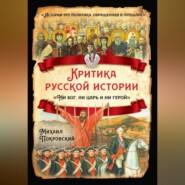По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петр I. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кроме вспомогательного русского войска под начальством Огильви, у Августа, по заключенному прежде договору, был русский отряд, состоявший из солдат и украинских казаков; он находился под командою Паткуля, который, как мы сказали, в это время носил звание доверенного царя при польском короле. Паткуль не ладил с саксонскими министрами Августа, и сам Август не любил его. С одной стороны, Август раздражен был против него за сношение с берлинским кабинетом; прусский король был дурно расположен к Августу и склонялся даже к тому, чтобы признать соперником его Станислава Лещинского, а Паткуль не только имел друзей в Берлине, но в своих письмах, отправляемых туда, отзывался дурно о саксонских министрах и порицал поступки Августа. С другой стороны, Паткуль беспрестанно жаловался царю, что порученное ему русское войско очень дурно содержится в Саксонии, что саксонские министры нарочно отвели квартиры этому войску в разоренном крае, где оно терпит большие лишения. Паткуль указывал, что в крайней нужде, в какую поставлено русское войско, служившее Августу, он истратил собственные деньги на прокормление русских. Наконец, Паткуль представлял, что для спасения русских от голодной смерти в Саксонии, лучше всего отдать русский отряд внаймы императору. Петр дал Паткулю полномочие на передачу русского войска императору, но только в крайнем случае. Пользуясь этим дозволением, Паткуль заключил договор с имперским генералом Штратманом о передаче русского отряда в имперскую службу на один год. Саксонский государственный совет, правивший страною в отсутствии короля, был до чрезвычайности раздражен этим поступком и после напрасных увещаний, обращенных к Паткулю, не делать того, что он затевает, совет, по предложению фельдмаршала Штейнау, приказал арестовать Паткуля и отправить в крепость Зонненштейн. Петр протестовал против такого поступка, требовал отпуска Паткуля, необходимого для него уже и потому, что Паткуль обязан был отдать отчет русскому царю в своих действиях. Но протестации Петра остались бесплодными.
Между тем Карл XII, простоявши несколько месяцев в Блоне, в январе 1706 года, несмотря на суровую зиму, бросился на Гродно, думая захватить там Августа; Август хотя и не достался в руки Карла, успевши ранее выйти из Гродно с четырьмя русскими полками и соединиться со своим генералом Шиленбергом, но 2-го февраля, вместе с этим своим генералом, был разбит наголову шведским генералом Реншильдом. Карл простоял под Гродно до конца марта, пытаясь взять этот город, защищаемый Огильви; наконец, по приказанию Петра, Огильви вырвался из осады и ушел, потерявши значительное число русского войска от болезней и недостатка в припасах. Карл из-под Гродно не преследовал его, а ушел на Волынь и расположил там свое войско, пользуясь изобилием, господствовавшим в стране, и облагал тяжелыми контрибуциями имения панов, придерживавшихся стороны Августа. Пребывание Карла на Волыни заставляло Петра опасаться, чтобы шведский король не ворвался в Украину, и, в предупреждение этого, Петр сначала отправил в Киев Меншикова, а 4-го июля сам прибыл туда в первый раз в жизни и, пробывши там полтора месяца, заложил нынешнюю Печерскую крепость. Он оставил Украину только тогда, когда получил известие, что Карл вышел из Волыни в противоположную сторону. Петр поскакал в Петербург, а в Польшу отправил войско под начальством Меншикова; фельдмаршал Огильви был уволен.
Карл XII на этот раз решился нанести вред своему врагу в его наследственных владениях; оставивши генерала Мардефельда в Польше, он вступил в Саксонию и начал, по своему обычаю, налагать на жителей тяжелую контрибуцию. Тут Август, испугавшись за свои наследственные земли, отправил к шведскому королю своего министра Пфингтена просить мира, и этот уполномоченный от имени своего короля заключил со Швециею, в замке Альтранштадте, близ Лейпцига, договор, по которому Август отрекался от польской короны в пользу Станислава Лещинского, разрывал союз с русским царем, обязывался отпустить всех пленных и выдать изменников, в ряду которых Паткуль занимал первое место. Пфингтен привез своему королю этот договор для утверждения 4-го октября в Пиотроков, где был и Меншиков со своими войсками. Король тайно утвердил договор, но Меншикову об этом не сказал, так что Меншиков, вместе с русскими и саксонскими войсками, продолжал воевать со шведами в качестве союзника Августа. Не подавая Меншикову вида о состоявшемся примирении, Август, однако, дал сам об этом тихонько знать шведскому генералу Мардефельду, но Мардефельд, не получая еще о том же известия от своего короля, не поверил Августу и вступил в битву с Меншиковым у Калиша. С Мардефельдом, кроме шведов, были и поляки (по русским известиям до 20 000). 18-го октября произошла битва, кончившаяся полною победою русских. Победа эта произвела большое торжество в России; Август продолжал таиться перед Меншиковым, вместе с ним совершал благодарственные молебствия о победе, отпустил Меншикова с войском на Волынь и продолжал скрывать от русского посла Василия Долгорукова заключенный со шведами мир, пока нельзя было долее скрывать тайны. Карл обнародовал Альтранштадтский мир; тогда Август уверял Долгорукова, что он заключил мир только видимый, чтобы спасти Саксонию от разорения, а как только Карл выйдет из его владений, так он тотчас нарушит этот мир и заключит опять союз с царем. Следствием Альтранштадтского мира была выдача Паткуля. Военные обстоятельства были поводом, что главнейшая деятельность Петра во внутреннем устроении государства клонилась к возможно большему обогащению казны и к доставке средств для ведения войны. Этой цели соответствовали почти все нововведения того времени, получившие впоследствии самобытный характер в сфере преобразований. Таким образом для правильного и полного взимания поборов необходимо было привести в известность количество жителей в государстве, и для того учреждены, в 1702 году, метрические книги для записки крещенных, умерших и сочетавшихся браком.
В 1705 году велено было переписать всех торговых людей с показанием их промыслов. Промыслы на Северном море (китовые, тресковые и моржевые), производившиеся до сих пор вольными людьми, отданы исключительно компании, во главе которой был Меншиков. С тою же целью – умножения казны – сделаны были важные перемены в делопроизводстве. Еще в 1701 году устроены были в городах крепостные избы и установлены надсмотрщики, которые должны были записывать всякую передачу имуществ, всякие договоры и условия. В 1703 году не только в городах, но и в селах велено было заключать всякие условия с рабочими, извозчиками, промышленниками не иначе, как с записью и платежом пошлин. Потребность в солдатах повела к самым крайним средствам привлечения народа в военную службу. В январе 1703 года всех кабальных, оставшихся после смерти помещиков и вотчинников, велено сгонять и записывать в солдаты и матросы, а в октябре того же года у всех служилых и торговых людей велено взять в солдаты из их дворовых людей пятого, а из деловых (т. е. рабочих) седьмого, не моложе двадцати и не старше тридцати лет. Такое же распоряжение коснулось бельцов, клирошан и монашеских детей. Ямщики обязаны были давать с двух дворов по человеку в солдаты. Со всей России велено взять в военную службу воров, содержавшихся под судом. В 1704 году, под угрозою жестокого наказания, велено собраться в Москве детям и свойственникам служилых людей и выбирать из них годных в драгуны и солдаты. Последовал ряд посягательств на всякую собственность. В ноябре 1703 года во всех городах и уездах приказано описать леса на пространстве пятидесяти верст от больших рек и двадцати от малых, а затем вовсе запрещалось во всем государстве рубить большие деревья под опасением десятирублевой пени, а за порубку луба – под страхом смертной казни. Через несколько времени (января 1705 года) сделано было исключение для рубки леса на сани, телеги и мельничные потребы, но отнюдь не на строения, а зато за рубку в заповедных лесах каких бы то ни было деревьев назначена смертная казнь. Страсть царя к кораблестроению вынудила эту строгую меру. Январь 1704 года особенно ознаменовался стеснением собственности. Все рыбные ловли, пожалованные на оброк или в вотчину и поместье, приказано отобрать на государя и отдавать с торгов на оброк: для этого была учреждена особая Ижорская канцелярия рыбных дел, под управлением Меншикова. Потребовались повсюду сказки о способе ловли рыбы, об ее качестве, о ценах и пр. Все эти рыбные ловли сдавались в откуп, а затем всякая тайная ловля рыбы вела за собою жестокие пытки и наказания. Описаны были и взяты в казну постоялые дворы, торговые пристани, мельницы, мосты, перевозы, торговые площади и отданы с торгу на оброк. На всяких мастеровых: каменщиков, плотников, портных, хлебников, калачников, разносчиков, – мелочных торговцев и пр., наложены были годовые подати по две гривны с человека, а на чернорабочих по четыре алтына. Хлеб можно было молоть не иначе, как на мельницах, отданных на оброк или откуп, с платежом помола. Оставлены мельницы только помещикам с платежом в казну четвертой доли дохода. Все бани в государстве сдавались на откуп с торгов; запрещалось частным домохозяевам держать у себя бани под страхом пени и ломки строения. Во всем государстве положено было описать все пчельники и обложить оброком. Для всех этих сборов были устроены новые приказы и канцелярии, находившиеся под управлением Меншикова. Через несколько времени банная пошлина была изменена: позволено иметь домовые бани, но платить за них от пяти алтын до трех рублей; а в июне с бань крестьянских и рабочих людей назначена однообразная пошлина по три алтына и две деньги по всему государству. Также в январе 1705 года дозволено частным лицам иметь постоялые дворы, с обязательством платить четвертую часть дохода в казну. Для определения правильного сбора требовались беспрестанно сведения или сказки, что служило поводом к беспрестанным придиркам и наказаниям. Соль во всей России продавалась от казны вдвое против подрядной цены. Табак, с апреля 1705 года, стал продаваться не иначе, как от казны, кабацкими бурмистрами и целовальниками; за продажу табака контрабандою отбирали все имущество и ссылали в Азов: доносчики получали четвертую часть, а тем, которые знали, да не донесли, угрожала потеря половины имущества. В январе того же года учрежден был своеобразный налог: во всем государстве приказано переписать дубовые гробы, отобрать их у гробовщиков, свезти в монастыри и к поповским старостам и продавать вчетверо против покупной цены. Каждый, привозивший покойника, должен был являться с ярлыком, а кто привозил мертвеца без ярлыка, против того священники должны были начинать иск. В этом же месяце введен был налог на бороды: со служилых и приказных людей, а также с торговых и посадских по 60 рублей в год с человека. С гостей и богатых торговцев гостиной сотни по 100 рублей, а с людей низшего звания: боярских людей, ямщиков-извозчиков, по 30 рублей; заплатившие должны были брать из приказа особые знаки, которые постоянно имели при себе, а с крестьян брали за бороды по две деньги всякий раз, как они проходили в ворота из города или в город: для этого были устроены особые караульные, и бурмистры должны были смотреть за этим под страхом конечного разорения. Также подверглось пени русское платье. У городских ворот приставленные целовальники брали за него с пешего 13 алтын 2 деньги, с конного по 2 рубля.
Несмотря на строгие меры и угрозы, повсеместно происходила противозаконная беспошлинная торговля, и царь, чтобы пресечь ее, поощрял доносчиков и подвергал телесному наказанию и лишению половины имущества тех, которые знали и не доносили, хотя бы они были близкие сродники. За всякое корчемство отвечали целые волости и платили огромные пени, для чего и были учреждены особенные выемные головы, которые должны были ездить от города до города по селам и ловить корчемников. Беспрестанно открывалось, что в разных местах продолжали, вопреки царским указам, производить свободно разные промыслы, а в особенности рыбные ловли. И те лица, которые должны были смотреть за казенным интересом, сами делались ослушниками. Кроме всякого рода платежей, несносною тягостью для жителей были разные доставки и казенные поручения, и в этом отношении остались поразительные примеры грубости нравов. Царские чиновники, под предлогом сбора казенного дохода, притесняли и мучили жителей, пользовались случаем брать с них лишнее: удобным средством для этого служил правеж. Со своей стороны, ожесточенные жители oткрыто сопротивлялись царским указам, собираясь толпами, били дубьем чиновников и солдат. Старая привычка обходить и не исполнять закон, постоянно проявляясь, ставила преграды предприятиям Петра. Так, например, несмотря на введение гербовой бумаги, каждый год следовали одно за другим подтверждения о том, чтобы во всех актах и условиях не употреблялась простая бумага. И вообще за всеми распоряжениями правительства следовали уклонения от их исполнения. Торговля, издавна стесняемая в Московском государстве в пользу казны, в это время подверглась множеству новых монополий. Так, торговля дегтем, коломазью, рыбным жиром, мелом, ворванью, салом и смолою отдавалась на откуп, а с 1707 года начала производиться непосредственно от казны через выборных целовальников, с воспрещением кому бы то ни было торговать этими товарами. К разным стеснениям экономического быта присоединялось еще в Москве запрещение строить в одной части Москвы (Китай-городе) деревянные строения, а в других частях – каменные, и приказание делать мостовые из дикого камня. Гости и посадские люди должны были за свой счет возить камень, а крестьяне, приходя в Москву, должны были принести с собою не менее трех камней и отдать у городских ворот городским целовальникам.
Между тем наборы людей в войско шли возрастающим образом: в январе 1705 года с разных городов, посадов и волостей взято было с двадцати дворов по человеку в артиллерию, возрастом от 20 до 30 лет. В феврале положено взять у дьяков подробные сведения об их родственниках и выбрать из них драгун.
В том же феврале со всего государства определено с двадцати дворов взять по рекруту, от 15 до 20 лет возраста холостых, а там, где меньше двадцати дворов – складываться. Этим новобранцам должны были сдатчики доставить обувь, шубы, кушаки, чулки и шапки; если кто из этих рекрут убегал или умирал, то на его место брали другого. Затем встречаем мы последовательно наборы рекрут в войско. В декабре 1705 года назначен набор по человеку с 20 дв., то же повторилось в марте 1706, потом в 1707 и 1708 годах. Кроме того, из боярских людей в 1706 г. взято в боярских вотчинах с 300 дворов, а в других вотчинах со 100 по человеку, а в декабре 1706 г. взято в полки 6000 извозчиков. При поставке рекрут помещики обязаны были давать на них по полтора рубля на каждого; торговые люди обложены были на военные издержки восьмою деньгою с рубля, а те, которые должны были сами служить, но оказывались неспособными к службе, платили пятнадцать рублей. Дьяки и приказные люди в 1707 году были поверстаны в военную службу и должны были из себя составить на собственное иждивение особый полк. Со всех священников и дьяконов наложен сбор драгунских лошадей, с 200 двор. по лошади, а в Москве со 150 дворов. Кроме набора рекрут, царь велел брать рабочих, преимущественно в северных областях, и отсылать их на Олонецкую верфь в Шлиссельбург, а более всего в Петербург. Народ постоянно всеми способами убегал от службы, и царь издавал один за другим строгие указы для преследования беглых; за побег угрожали смертною казнью не только самим беглым, но и тем, которые будут их передерживать, не станут доносить о них и не будут способствовать их поимке. Но беглых солдат было так много, что не было возможности всех казнить, и было принято за правило из трех пойманных одного повесить, а двух бить кнутом и сослать на каторгу. С неменьшею суровостью преследовали беглых крестьян и людей. Передерживавшие беглых такого рода подвергались смертной казни. Беглецы составляли разбойничьи шайки и занимались воровством и грабежом. Принято было за правило казнить из пойманных беглых крестьян и холопов только тех, которые уличены будут в убийстве и разбое, а других наказывать кнутами, налагать клейма, вырезывать ноздри. Последний способ казни был особенно любим Петром. В его бумагах остались собственноручные заметки о том, чтобы инструмент для вырезывания ноздрей устроить так, чтобы он вырывал мясо до костей. Неудовольствие было повсеместное, везде слышался ропот; но везде бродили шпионы, наушники, подглядывали, подслушивали и доносили; за одно неосторожное слово людей хватали, тащили в Преображенский приказ, подвергали неслыханным мукам. «С тех пор, как Бог этого царя на царство послал, – говорил народ русский, – так и светлых дней мы не видим: все рубли, да полтины, да подводы, нет отдыха крестьянину. Это мироед, а не царь – весь мир переел, переводит добрые головы, а на его кутилку и перевода нет!» Множество взятых в солдаты было убито на войне; они оставили жен и детей, и те, скитаясь по России, жаловались на судьбу свою и проклинали царя, с его нововведениями и воинственными затеями. Ревнители старины вопияли против брадобрития и немецкого платья, но их ропот сам по себе не имел бы большой силы без других важных поводов, возбуждавших всеобщее негодование: бритье бород, немецкое платье в эпоху Петра тесно связывались с разорительными поборами и тяжелою войною, истощавшею все силы народа. Ненависть к иностранцам происходила оттого, что иностранцы пользовались и преимуществами, и милостями царя, более природных русских, и позволяли себе презрительно обращаться с русскими.
Народ, естественно, был склонен к бунту; но в средине государства, где было войско и где высший класс был за царя, взрыву явиться было неудобно. Бунты начали вспыхивать на окраинах, как то и прежде не раз делалось в истории Московского государства. Летом 1705 года началось волнение в Астрахани; заводчиками бунта были съехавшиеся туда торговцы из разных городов, астраханские земские бурмистры и стрелецкие пятидесятники. Начали толковать, что Петр вовсе не сын царя Алексея и царицы Натальи: царица родила девочку, а ее подменили чужим мальчиком, и этот мальчик – теперешний царь. Ходили и другого рода слухи: что государь взят в плен и сидит в Стокгольме, а начальные люди изменили христианской вере. Астраханский воевода Ржевский успел сильно раздражить народ ревностным исполнением воли Петра: людей не пускали в церковь в русском платье, обрезывали им полы перед церковными дверьми, насильно брили и на поругание вырывали усы и бороды с мясом, народ отягощали поборами и пошлинами. «С нас, – вопили люди в Астрахани, – берут банные деньги по рублю, с погребов, со всякой сажени по гривне, завели причальные и отвальные пошлины. Привези хворосту хоть на шесть денег в лодке, а привального заплати гривну. В Казани и других городах поставлены немцы, по два, по три человека на дворы, и творят всякие поругательства над женами и детьми». Распространилась молва, что из Казани пришлют в Астрахань немцев и будут за них насильно выдавать девиц. Эта весть до того перепугала астраханцев, что отцы спешили отдавать дочерей замуж, чтоб, оставаясь незамужними, они не достались против воли, как собственной, так и воли их родителей, «некрещеным» немцам: в июле 1705 года было сыграно в один день до ста свадеб, а свадьбы, как следовало, сопровождались попойками, и народ под постоянным влиянием винных паров стал смелее. Ночью толпа ворвалась в Кремль, убила воеводу Ржевского и с ним нескольких человек, в том числе иностранцев: полковника Девиня и капитана Мейера. Мятежники устроили казацкое правление и выбрали главным старшиною ярославского гостя Якова Носова. За астраханцами взбунтовались жители Красного и Черного Яра и, по примеру астраханцев, устроили у себя выборное казацкое правление; но усилия мятежников взволновать донских казаков не имели успеха. Хотя на Дону было слишком много недовольных, но донское правительство, бывшее в руках значных, или так называемых старых казаков, в пору не допустило распоряжаться по-своему голытьбе, состоявшей из беглецов, сбиравшихся на Дон со всей Руси. Государь, узнавши в Митаве о бунте на восточных окраинах, давал ему больше значения, нежели он имел. Петр опасался, чтобы мятеж не охватил всей России, не проник бы и в Москву. Для укрощения его Петр отправил самого фельдмаршала Шереметева и в то же время написал боярину Стрешневу, что нужно бы вывезти из московских приказов казенные деньги, а также и оружие. Шереметеву дан был наказ: отнюдь не делать жестокостей, но объявлять мятежникам прощение, если они покорятся. Шереметев, явившись на Волгу, без всякого затруднения усмирил Черный Яр и, приехавши к Астрахани, послал сызранского посадского Бородулина уговаривать мятежников. Выбранный астраханскими мятежниками старшина Носов не поддавался увещаниям, называл царя обменным царем, говорил, что царь нарушил христианскую веру, что с ними, астраханцами, заодно многие люди в Московском государстве и что они пойдут весною выводить бояр и воевод, доберутся «до царской родни, до немецкой слободы и выведут весь его корень». Они злились особенно на Меншикова, которого звали еретиком. Несмотря, однако, на такие смелые заявления, как только Шереметев, подступивши к Астрахани, ударил из пушек, тотчас мятежники стали сдаваться, и сам Яков Носов вышел с повинною к боярину. Вместо обещанного прощения, мятежников начали отправлять в Москву и там, после продолжительных и мучительных пыток, предали колесованию. Так погибло 365 человек. Но из армии самого Шереметева множество солдат бежало в то время, как он возвращался из Астрахани.
Невыносимые поборы и жестокие истязания, которые повсюду совершались над народом при взимании налогов и повинностей, приводили народ в ожесточение. Народ бежал на Дон и в украинные земли; по рекам: Бузулуку, Медведице, Битюгу, Хопру, Донцу завелись так называемые верховые казачьи городки, населенные сплошь беглецами. Эти верховые городки не хотели знать никаких податей, ни работ, ненавидели Петра и его правление, готовы были сопротивляться вооруженною рукою царской ратной силе. В 1707 году царь отправил на Дон полковника, князя Юрия Долгорукова, требовать, чтобы донские казаки выдали всех беглых, скрывавшихся на Дону; старшины показали вид покорности, но между простыми казаками поднялся сильный ропот, тем более, когда в то же время объявлено было казакам приказание царя брить бороды. Донские казаки считали своею давнею привилегиею давать убежище всем беглым. Когда полковник князь Долгорукий со своим отрядом и с пятью казаками, данными старшиною, отправился для отыскания беглых, атаман Кондратий Булавин, из Трехизбянской станицы на Донце, напал на него 9-го октября 1707 года на реке Айдаре, в Ульгинском городке, убил его, перебил всех людей и начал возмущать донецкие городки, населенные беглыми. В этих городках встречали его с хлебом и медом. Булавин составил план взбунтовать все украинные городки, произвести мятеж в донском казачестве, потом взять Азов и Таганрог, освободить всех каторжных и ссыльных и, усиливши ими свое казацкое войско, идти на Воронеж, а потом и на самую Москву. Но прежде чем Булавин успел возмутить городки придонецкого края, донской атаман Лукьян Максимов быстро пошел на Булавина, разбил и прогнал, а взятых в плен его сотоварищей перевешал за ноги. Булавин бежал в Запорожье, провел там зиму, весною явился опять в верхних казачьих городках с толпою удалых и начал рассылать грамоты; в них он рассказывал, будто Долгорукий, им убитый, производил со своими людьми в казачьих городках разные неистовства: вешал по деревьям младенцев, кнутом бил взрослых, резал им носы и уши, выжег часовни со святынею. Булавин, в своих воззваниях, убеждал и начальных лиц, и простых посадских, и черных людей стать единодушно за святую веру и друг за друга против князей, бояр, прибыльщиков и немцев. Он давал повеление выпускать всех заключенных из тюрем и грозил смертною казнью всякому, кто будет обижать или бить своего брата. Донской атаман Максимов пошел на него снова, но значительная часть его казаков перешла к Булавину. В руки воровского атамана досталось 8000 р. денег, присланных из Москвы казакам. Сам Максимов едва бежал в Черкассы. Эта победа подняла значение Булавина. За нею поднялись двенадцать городков на северном Донце, двадцать шесть – на Хопре, шестнадцать – на Бузулуке, четырнадцать – на Медведице. Восстание отозвалось даже в окрестностях Тамбова: и там в селах крестьяне волновались и самовольно учреждали у себя казацкое устройство.
В Пристанном городке на Хопре Булавин собрал сходку из обитателей разных городков и разослал по сторонам «прелестные» письма. Он требовал, чтобы отовсюду половина жителей шла в сход за веру и за царя (!) для того, что злые бояре и немцы злоумышляют, жгут и казнят народ, вводят русских людей в еллинскую веру. «Ведаете сами, молодцы, – писал Булавин, – как деды ваши и отцы положили и в чем вы породились; прежде сего старое поле крепко было и держалось, а ныне те злые люди старое поле перевели, ни во что почли, и чтоб вам старое поле не истерять, а мне, Булавину, запорожские казаки слово дали, и белогородская орда и иные орды, чтоб быть с вами заодно. А буде кто или которая станица тому войсковому письму будут противны, пополам верстаться не станут, или кто в десятки не поверстается, и тому казаку будет смертная казнь».
Задачею мятежа, как и при Стеньке Разине, было расширить область казачества. Средоточием его признавался Дон и донское казачье войско, которое на поэтическом русском народном языке носило название, как наименование своего отечества, Тихий Дон. Те города и поселения, которые пристанут к мятежу и введут у себя казачье устройство, тем самым присоединялись к Дону или казачьему войску. В украинных городах жители, состоявшие из беглых, самовольно назывались казаками; из таких-то Булавин составил отряды под начальством предводителей, нареченных, по казацкому обычаю, атаманами: то были Хохлач, Драный, Голый, Строка. Булавин отправил их по украинным городкам, а сам бросился на Черкасск. 1 мая в Черкасске казаки взбунтовались и выдали Булавину верного царю атамана Лукьяна Максимова и с ним старшину. 6 числа того же месяца круг, собранный в Скородумовской станице, их всех в числе шести человек осудил на смерть. Им отрубили головы; Булавин провозглашен был атаманом всех рек. Булавин не приказал в церквах молиться за царя и разослал во все стороны прелестные письма, уверял, что поднялся за всех маломочных людей, за благочестие, за предания седьми соборов, за старую истинную веру; извещал, что казаки намерены отложиться от царя за то, что царь перевел христианскую веру в своем царстве, бреет бороды и тайные уды у мужчин и у женщин, и потому казаки, вместо русского царя, хотят признать над собою власть царя турецкого. И Булавин, вслед за тем, через кубанских мурз послал письмо к турецкому султану. «Нашему государю, – писал он, – отнюдь не верь, потому что он многие земли разорил за мирным состоянием, и теперь разоряет, и готовит суда и войско на турецкую державу».
Булавин прежде всего надеялся на украинные городки, но дело восстания пошло там плохо. Для усмирения мятежа Петр послал майора гвардии князя Василия Владимировича Долгорукого и дал ему приказание истреблять городки, основанные в глухих местах и населенные беглыми. Петр полагал, что эти-то городки составляют зерно мятежа. Царь приказывал Василию Долгорукому руководствоваться записанными в книгах поступками князя Юрия Долгорукого, прекращавшего мятеж в восточных областях России, возбужденный Стенькою Разиным. Князь Василий Долгорукий должен был все жечь, людей рубить без разбора, а наиболее виноватых – колесовать, четвертовать, сажать на колья. Кроме Долгорукого, действовать против мятежников должны были: стольник Бахметев и слободские малороссийские полки. Воровской атаман Голый успел было напасть на речке Уразовой (Валуйского уезда) на Сумской слободской полк, разбил его в пух и убил сумского полковника; но Бахметев разбил на речке Курлаке Хохлача, пробиравшегося к Воронежу с намерением освободить там тюремных сидельцев, перебить начальных людей и иноземцев. Атаман Драный был разбит и убит в битве на реке Горе бригадиром Шидловским; тысяча пятьсот запорожцев, помогавших Драному, сдались, и все были истреблены. Наконец, посланный Булавиным к Азову отряд в числе пяти тысяч был отбит с большим уроном. Эти неудачи сразу лишили Булавина доверия. Донские казаки, как показывает вся их история, не отличались постоянством: они склонны были начинать мятежи, но упорно вести их не были способны; всегда между ними находилось много таких, которые искушались случаем выдавать свою возмутившуюся братию, показать перед верховною властью свое раскаяние и через то остаться в выигрыше. Против Булавина составился заговор, как только счастье изменило Булавину в его предприятии. Руководителем заговора был товарищ Булавина, Илья Зерщиков. 7 июля напали заговорщики на своего главного атамана. Булавин отстреливался, убил двоих казаков, но потом, увидавши, что врагов много и ему не сладить с ними, убежал в курень и застрелился из пистолета. Зерщиков, избранный атаманом, от имени всего войска принес царю повинную. Долгорукий занял Черкасск и обошелся милостиво, чтоб не раздражить казаков. Украинные городки, носившие название верховых, осуждены были на истребление, а потому бунт, прекратившись в земле донских казаков, не прекратился в великорусской Украине. Беглые, населявшие опальные городки, не ожидали себе никакого милосердия и поневоле в отчаянии должны были резаться до последней степени. Атаман Некрасов, с шайкою самозванных казаков, бросился было на восток и хотел взять Саратов, от которого был отбит калмыками, а тем временем Долгорукий взял его постоянное местопребывание – Асаулов городок на Дону; главных заводчиков, там найденных, приказал четвертовать, а множество других повесить: тогда несколько сот виселиц, с повешенными на них мятежниками, было поставлено на плотах и пущено по Дону. Некрасов, услышавши о разорении своего городка, убежал на Кубань с двухтысячною шайкою и отдался под власть крымского хана. По его следам пошли другие из донских станиц, преданных расколу, и так положено было начало казаков некрасовцев, которые поселились на берегу Черного моря между Темрюком и Таманью, а в 1778 году ушли в Турцию.
Из всех атаманов упорнее показал себя Никита Голый. Он хотел продолжать дело Булавина и рассылал прелестные письма. «Идите, – писал он, – идите, голытьба, идите со всех городов, нагие, босые: будут у вас и кони, и оружие, и денежное жалованье». Мятеж длился несколько времени в южной части воронежской губернии и в харьковской, но удачи мятежникам не было. Острогожского слободского полка полковник Тевяшов и подполковник Рикман 26 июля разбили при урочище Сальцова Яруга воровское полчище и взяли в плен атамана Семена Карпова, потом побрали и поразоряли городки: Ревеньки, Закатный, Билянский, Айдарский. Голый не унывал, собирал последние силы и укрепился в Донецком городке с другим атаманом, Колычевым. 26 октября Долгорукий с Тевяшовым взяли и этот городок, сожгли его, многих захваченных истребили, но Голый с Колычевым убежал. Долгорукий догнал его на Дону у Решетовой станицы. У Голого было восемь тысяч. Он вступил в битву. Вся его шайка погибла; множество мятежников потонуло; попавшиеся в плен были казнены. Но Голый еще раз спасся бегством. По царскому приказанию были сожжены все городки по берегам рек Хопра, Медведицы до Устьмедведицкой станицы, Донца до Лугани, и по всему протяжению рек: Айдара, Бузулука, Деркула, Черной Калитвы. Все обитатели этих городков, те, на которых падало обвинение в участии в мятеже, истреблены, прочих перевели в другие местности, где с них удобнее было требовать платежа налогов и отправления повинностей.
III. От Альтранштадтского мира до Прутского мира России с Турцией
Народное восстание беспокоило Петра на востоке государства, а с запада готовилось вторжение шведов. После примирения Августа с Карлом и отказа польского короля от короны, Польша оставалась в неопределенном положении. Приходилось полякам: или признать королем Станислава, навязанного им чужеземною силою, или выбирать нового. Если бы у них доставало политического смысла и гражданского мужества, то, конечно, они бы стремились устроить у себя правительство, не угождая ни Петру, ни Карлу. Но тут открылось, что польские паны, заправлявшие тогда своим государством, повели уже Речь Посполитую на дорогу к разложению. Влиятельные паны, бывшие сторонники Августа и противники Станислава, составлявшие генеральную конфедерацию, без зазрения совести просили от русского царя подачек за то, что будут держать Речь Посполитую в союзе с Россией и в войне с Карлом. Таким образом, куявский бискуп примас Шенбек, люблинский и мазовецкий воеводы, коронный подканцлер, маршалок конфедерации тайно взяли из рук русского посла Украинцева по нескольку тысяч. Кроме того, Петр дал конфедерации 20 000 рублей на войско. Петр успел настолько, что генеральная конфедерация, собравшись во Львове, заключила договор с Россией действовать против Карла. Со своей стороны Август, посредством своих благоприятелей, уверял поляков, что он не хочет отказываться от короны. Петр в эту пору ему не доверял и пытался было предложить корону сыну покойного короля Собеского, Якову. Тот отказался. Петр предлагал польскую корону трансильванскому князю Ракочи. Последний не прочь был сделаться польским королем, но не успел составить в Польше себе партии. Наконец Петр предлагал польскую корону знаменитому имперскому полководцу Евгению Савойскому, но тот, так же как и Собеский, не прельстился на опасную корону. Между тем, соображая, что теперь приходилось вести войну с Карлом без союзников, Петр делал попытки примириться с Карлом и для этого искал посредничества в Англии, Австрии, у голландских штатов и даже у Людовика XIV. Но дело не могло пойти на лад, потому что Карл XII не хотел мириться иначе, как на условии, чтобы Россия возвратила все сделанные ею завоевания, а Петр ни за что не хотел мириться иначе, как оставив за собою Петербург. Притом же в Европе вообще господствовало такое мнение, что не следует давать России усиливаться и допускать ее в систему европейских государств. Французский кабинет прямо указывал Турции опасность от усиления России, которая начнет волновать единоплеменные и единоверные народы, находившиеся под властью Оттоманской Порты. В Австрии боялись вредного для нее влияния России на подвластных славян, и особенно православных. Шведские министры настраивали и Англию, и Голландию в таком же враждебном духе, поддерживая мнение, что если Россия усилится, то сделает варварское скифское нашествие на Европу. Одним словом, все стремления Петра сделать Россию европейским государством не только не находили сочувствия в Европе, но возбуждали зависть и боязнь. Вместе с тем на русских продолжали смотреть с высокомерным презрением. В таких-то обстоятельствах Петру оставалось бороться с Карлом один на один. К счастью русского государя, упрямый и своенравный король шведский, не слушаясь советов ни государственных людей, ни опытных полководцев, повел свои действия как можно лучше для России.
Задумавши поход в русские владения, Карл пропустил все лето и осень, простоявши лето в Саксонии, а осень в Польше, и двинулся в поход в Литву зимою, подвергая свое войско и стуже, и недостатку продовольствия; вдобавок он раздражал поляков, не скрывая явного к ним презрения, и без всякой пощады их обирал. Гродно было в руках русских; Карл неожиданно явился под этим городом, думая захватить в нем Петра: русский царь едва двумя часами успел уехать оттуда. Защищавший Гродно бригадир русской армии Мюлендорф, после недолгого сопротивления, впустил в город шведов, а потом, страшась наказания, передался неприятелю. Петр, узнавши, что враг его собирается чрез Белоруссию идти в московские пределы, приказал опустошать Белоруссию, чтоб шведы на пути не находили продовольствия, а сам убежал в Петербург, с горячечною деятельностью занялся укреплением его, приказывал в то же время укреплять Москву, велел даже, при первом опасном случае, вывозить все казенные и церковные сокровища на Белоозеро, делал распоряжения об укреплении других городов: Серпухова, Можайска, Твери, дал повеление жителям, под смертною казнью, не выходить из своих мест жительства и быть готовыми к осаде, приказывал гнать народ на работы для укрепления городов. Петр думал, что с весною придется отчаянным образом защищаться от неприятельского вторжения в пределы государства. Но Карл, вступивши в Литву, стал в местечке Радошковичах и простоял там четыре месяца. Не ранее июня выступил он по пути в Россию на Березину. Там русские, под командой Шереметева и Меншикова, берегли переправу, и 3-го июля в местечке Головчине произошла битва. Русские дрались упорно, но отступили. Шведы могли хвалиться победою, но им она стоила дорого. Положение русских, однако, становилось затруднительным потому, что они не знали, по какому направлению пойдет Карл: на север или на юг, в Смоленск или в Украину? Карл прибыл в Могилев, простоял там около месяца, дожидаясь генерала Левенгаунта с его корпусом в 16 000 чел. из Лифляндии. В августе, не дождавшись Левенгаупта, шведский король выступил, перешел Днепр и двинулся к р. Соже. Русские думали, что он идет на Смоленск. Действительно, Карл шел на север ко Мстиславлю и 29-го августа встретился с русским войском у местечка Доброго. Сам царь участвовал в битве; русские и здесь остались в потере. Карл пошел за ними вслед, имел еще одну стычку с русскими и остановился. Ему оставалось подождать Левенгаупта, который был уже у Шклова, и потом действовать против русских, усиливши свое войско; но Карл 14-го сентября внезапно повернул назад и направился к Украине. Русские не преследовали его и обратили все силы на Левенгаупта. При местечке Лесном, 28-го сентября, русское войско под предводительством Меншикова, в присутствии царя, вступило в кровопролитную битву ночью. Левенгаупт был разбит наголову (до 8000 тысяч шведов было убито; 2673 чел. взято в плен с пушками и знаменами); Левенгаупт успел привести к королю только 6700 человек, и то без всяких запасов.
Карл шел в Украину с большими надеждами. Малороссийский гетман Иван Мазепа вступил с ним в тайный договор, и его тайная присылка к королю с просьбою идти скорее была, как говорили, причиною внезапного поворота королевского. Ни Петр, ни его государственные люди никак не ожидали измены тогдашнего малороссийского гетмана, бывшего одним из самых любимых и доверенных людей у русского государя. Петр ценил его ум, образованность, преданность видам своего государя, наделял его богатствами и отличиями. Мазепа был второй из получивших учрежденный Петром орден Андрея. Но тогдашнее положение Малороссии делало естественным такое явление. С самого Богдана Хмельницкого эта страна находилась в постоянном колебании.
Уступая тяжелым обстоятельствам, малорусс поневоле клонил голову то перед ляхом, то перед «москалем», то перед турком, а в душе не любил никого из них: его заветным желанием было прогнать их всех от себя и жить дома на своей воле. Это между тем было невозможно не только по обстоятельствам, извне влиявшим на Малороссию, но по причине внутренней безладицы, мешавшей всем помыслам и стремлениям направиться к одной цели. Казацкие старшины и вообще люди, у которых горизонт политических воззрений был шире, чем у простолюдинов, пропитаны были совсем иными понятиями, чем какие господствовали у великоруссов. Они чуяли, что русская самодержавная власть посягнет на то, что в Малороссии называлось казацкою вольностию. Уже со стороны великорусских важных лиц делались зловещие намеки на необходимость поставить Малороссию на великорусский образец. По поводу постройки Печерской крепости в Киеве, стали отрывать казаков от хозяйственных занятий и гонять на земляные работы, а великорусские служилые люди, наводнявшие Украину, обращались с туземцами нагло и свирепо. Мазепа был человек своего времени; для него, поставленного на челе власти в своем крае, независимость Малороссии не могла не быть идеалом. При невозможности достигнуть этого идеала он, наравне со своими соотечественниками, мог только втайне вздыхать, а перед великоруссами казался верным слугою царя. Но вдруг явилось искушение и надежда достичь желанной цели. Уже не раз польские сторонники шведского короля делали Мазепе соблазнительные предложения; он их отвергал, потому что не надеялся на успех. Но когда противник Карла и союзник Петра лишился короны, и Петру приходилось теперь одному без союзников бороться с победоносным соперником, когда Петр готовился уже не расширять пределы своего государства, а защищать его средину от неприятельского вторжения, – Мазепа увлекся предположением, что в предстоявшем повороте военных обстоятельств победа останется за шведским королем, и если Малороссия будет упорно стоять за Россию, то Карл отнимет ее у России и отдаст Польше, а потому казалось делом благоразумия заранее стать на сторону Карла, с тем чтобы, после расправы с Петром, Малороссия признана была самостоятельным независимым государством. В этом смысле Мазепа стал вести тайные переговоры, но все еще колебался и не открывал своего замысла никому, кроме самых близких; когда же Карл приблизился к Украине, а Меншиков потребовал гетмана к себе на соединение с великорусскими военными силами для совместного действия против Карла, – Мазепа очутился в роковой необходимости выбирать либо то, либо другое: 24 октября 1708 года он присоединился к шведскому войску с несколькими лицами из казацкой старшины, с четырьмя полковниками и отрядом казаков; но те, которые пошли за ним, стали потом уходить от него, когда узнали, куда он их ведет.
Петр, никак не ожидавший такого события, узнал о нем 27 октября в Погребках на Десне, где наблюдал за движениями неприятеля. Он приказал Меншикову истребить дотла Батурин, столицу гетмана. Русские взяли Батурин, 1 ноября, и перебили в нем все живое с такою жестокостию, какою отличались в Ливонии и в собственной земле во время укрощения булавинского бунта. Вслед за тем Петр приказал съехаться в город Глухов, к 4 ноября, малороссийскому духовенству и старшине. Там избран был новым гетманом стародубский полковник Иван Скоропадский, а потом, угождая царю, малороссийское духовенство совершило обряд предания анафеме Мазепы с его соучастниками. После того между Карлом и Мазепою, с одной стороны, и Петром со Скоропадским – с другой, началась полемика манифестами и универсалами, обращаемыми к малороссийскому народу. Карл и Мазепа старались вооружить народ против Москвы, пугая его тем, что царь хочет уничтожить казацкие вольности, а Петр и Скоропадский уверяли малоруссов, что Мазепа имеет намерение отдать Малороссию в прежнее порабощение Польше и ввести унию. Петр приказал сложить с народа поборы, установленные гетманом Мазепою, и в своем манифесте выразился так: «Ни один народ под солнцем такими свободами и привилегиями и легкостию похвалитися не может, как народ малороссийский, ибо ни единого пенязя в казну нашу во всем малороссийском крае с них брать мы не повелеваем».
Малороссия не пошла за своим старым гетманом: интересы простонародной массы были противоположны интересам старшин и вообще богатых и значных людей казацкого сословия. Последние понимали вольность в таком смысле, чтобы привилегированный класс, вроде польской шляхты, управлял всею страною и пользовался ее экономическими силами за счет остального народа – так называемой черни, а простонародная громада хотела полного равенства, всеобщего казачества. Едва только пошла по Малороссии весть, что чужестранцы приблизились к пределам малороссийского края и гетман со старшиною переходят на их сторону, народ заволновался, стали составляться шайки – нападать на чиновных людей, на помещиков, грабить богатых торговцев, убивать иудеев, и Мазепа, задумавший со старшиною доставить Малороссии независимость и свободу, должен был сознаться, что народ не хочет такой независимости и свободы, а желает иной свободы, к которой стремление начинает грабежом и расправою над знатными и богатыми людьми. Те, которые носили казацкое звание и были отличены по правам личным и имущественным от посполитых людей или черни, быть может, пошли бы за своим предводителем, если бы у Карла были большие силы, а у Петра было их мало. Вышло наоборот: казаки увидали, что Карл пришел с малочисленным войском и трудно было ему дополнять его из далекого своего отечества, а Петр явился с ратью, вдвое превосходившею силы его соперника; войско Петра беспрестанно увеличивалось и готово было безжалостно разорять малороссийский край, если казаки станут заявлять расположение к шведам.
Царь стал в Лебедине. Карл занял Ромны, взял Гадяч, потом потерял Ромны. Наступили такие суровые морозы, каких не помнили в Малороссии деды и прадеды. Птицы замерзали, летая по воздуху. Воины отмораживали себе руки и ноги. Шведы терпели более русских, потому что одеты были легче; это уменьшило силы Карла, а силы Петра увеличивались прибывавшими рекрутами.
В начале января 1709 г. шведы взяли местечко Веприк, и тем ограничились их успехи. Петр услышал, что Карл возбуждает турок идти на Россию и сам намеревается двинуться на Воронеж. Это побудило Петра оставить войско и ехать в Воронеж, чтоб распорядиться там относительно своих кораблей. Он поехал в начале февраля и осматривал в Воронеже и Таврове корабельные работы; вместе с мастеровыми собственноручно сам работал, в то же время занимался внутренними делами и даже поправлял печатаемые в то время ведомости, календари и учебные книги. Со вскрытием рек царь спустил в Таврове на воду новопостроенные корабли и, несмотря на нездоровье, отправился вниз по Дону в Новочеркасск, где приказал казнить Илью Зерщикова, напрасно думавшего избавиться выдачею Булавина, посетил Азов, осмотрел Троицкую крепость, несколько раз плавал по Азовскому морю, производя морские эволюции, а в мае возвратился к войску степью, через Харьков.
Между тем в отсутствие Петра продолжались военные действия со шведами; две стычки под Красным Кутом и Рашевкою, хотя довольно кровопролитные, не имели важных последствий, но очень важным делом была расправа с запорожцами. Кошевой Костя Гордиенко, приставши к Мазепе, увлек все товарищество; запорожцы обесчестили присланных к ним царских стольников, которые привезли милостивую царскую грамоту, денег на войско и в подарок старшинам. Замечательно, что запорожцы, всегда державшиеся интересов черни в борьбе с казацкою старшиною, и на этот раз заявили такое требование, которое было противно как Петру, так и Мазепе: чтобы в Малороссии не было старшины и чтобы весь народ был вольными казаками как в Сечи. Гордиенко отправился затем с запорожцами в Малороссию; к нему начала приставать чернь из Переяславльского полка; Гордиенко провозглашал всеобщую казачину и приказывал народу на обеих сторонах Днепра собираться и бить старшин. Тогда, по приказанию Петра, полковник Яковлев из Киева двинулся на судах вниз по Днепру, разбил полчища, собравшиеся у Переволочны, доплыл до Сечи и после упорного сопротивления взял ее приступом. Большая часть из находившихся в Сече запорожцев пала в битве; до трехсот человек взято в плен и казнено по приказанию государя. Но в Сече оставалась тогда небольшая часть всего запорожского коша; остальные с Гордиенком и со всею старшиною успели пробраться через Малороссию, разбили русский отряд полковника Кампеля и соединились с Карлом.
ПЕТР I В ПОЛТАВСКОЙ БИТВЕ.
Иоганн Готфрид Таннауэр. 1724–1725 гг.
Когда, 31 мая, Петр возвратился к войску, Карл, устроивши свою главную квартиру в Опошне, уже около двух месяцев занимался осадою Полтавы: он надеялся в ней найти большие запасы. Полтавский комендант Келин не только отвергал всякие предложения к сдаче, но делал смелые вылазки и наносил урон неприятелю. Царь, явившись из путешествия в свое войско, расположенное под Полтавой на другой стороне Ворсклы, известил о своем прибытии коменданта письмом, брошенным в пустой бомбе: Петр принял намерение переправить войско на другую сторону и дать генеральную битву, чтобы освободить Полтаву от осады. Переход через реку совершался несколько дней; 20 июня русские были уже на другой стороне реки и расположились лагерем, который стали укреплять шанцами. Шведы попытались в последний раз взять Полтаву приступом, но были отбиты, и Полтава освободилась от осады. Готовясь к битве, Петр откладывал ее со дня на день до прибытия 20 000 калмыков, но Карл, узнавши об этом, приказал двинуть войско в битву, 27 июня, на рассвете. Шведскою армиею предводительствовал Реншильд. Сам Карл XII получил перед тем рану в ногу и, сидя в качалке, велел возить себя по полю битвы. Всею русскою армиею командовал фельдмаршал Шереметев, артиллериею – Брюс, правым крылом – генерал Ренне, а левым – Меншиков. Сам Петр участвовал в битве, не избегая опасности: одна пуля прострелила ему шляпу, другая попала в седло, а третья повредила золотой крест, висевший у него на груди. В это-то время, ободряя своих воинов, он сказал знаменитые слова: «Вы сражаетесь не за Петра, а за государство, Петру врученное… а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия, слава, честь и благосостояние ее!» Через два часа участь битвы была решена. Шведы были разбиты наголову и бежали, оставивши более 9000 на поле битвы. Бежавшим шведским войском командовал Левенгаупт. Сам фельдмаршал Реншильд с тремя генералами и тысячей воинов взяты в плен. Карла едва спасли от плена: его качалка досталась русским. Главный министр шведского короля, граф Пиппер, со всею королевскою канцеляриею явился в Полтаву и сдался русским. На поле битвы в тот же день Петр устроил пир, пригласил к нему шведских военнопленных генералов, возвратил им шпаги, обласкал, хвалил за верность своему государю и, наливши кубок вина, сказал: «Пью за здоровье вас, моих учителей в военном искусстве». – «Хорошо же отблагодарили ученики своих учителей!» – ответил Реншильд.
На другой день после Полтавской битвы Петр послал Меншикова в погоню за бежавшим неприятелем, а сам приказал в присутствии своем похоронить убитых русских и собственноручно засыпал их землею. Меншиков догнал шведское войско на устье Ворсклы у Переволочны. Население все разбежалось; войску не на чем было переправляться через Днепр; запорожцы едва успели переправить на лодках Карла и Мазепу. Левенгаупт и товарищ его Крейц были застигнуты Меншиковым, не сопротивлялись, не имея ни пороху, ни артиллерии, и сдались военнопленными с 16 000 войска. Петр отправил за Днепр два драгунских полка под начальством генерала Волконского за Карлом и Мазепою, давши приказание, «если поймают Карла, то обходиться с ним честно и почтительно, а если поймают Мазепу, то вести его за крепким караулом и смотреть, чтобы он каким-нибудь способом не умертвил себя». Запорожцы успели провезти Карла с несколькими генералами и Мазепу с его приверженцами на татарских телегах через степь до Очакова. Отряд Волконского, догнавши их при переправе через Буг, захватил в плен нескольких шведов и казаков.
Петр приказал разослать пленных шведов по городам, назначив им жалованье по их чинам, но приказавши простых шведов употреблять на казенные работы, наградил русских генералов, участвовавших в битве, орденами, высшими чинами и вотчинами, офицеров – своими золотыми портретами и медалями, солдат – серебряными медалями и деньгами, а сам получил чин генерал-лейтенанта. В Москве на радостях восемь дней сряду звонили без устали и палили из пушек; по улицам кормили и поили народ, угощая вместе с тем и шведских пленников, по вечерам зажигали потешные огни. Сам царь отправился с Меншиковым в Польшу.
Август, услыхавши о несчастии Карла, увидел возможность нарушить Альтранштадтский мир и, собравши 14 000 саксонского войска, двинулся в Польшу, обнародовал манифест, в котором доказывал справедливость разрыва вынужденного мира со шведским королем, взваливал вину своих министров и представлял свои права на польский престол, ссылаясь на то, что папа не утвердил Станислава королем. Петр приехал в Варшаву. Паны, противники Лещинского, величали Петра спасителем своей вольности, тем более что русский отряд, посланный перед тем в Польшу под начальством Гольца, вместе с гетманом Синявским, одержал победу над войсками Станислава. 26 сентября Петр приехал в Торунь и там свиделся с Августом; все прежнее казалось забытым; Петр простил ему изменнический мир со шведами и выдачу Паткуля. Август все сваливал на своих министров. Друзья снова заключили оборонительный договор против Швеции; Август уступал Эстляндию России; царь обещал польскому королю, в вознаграждение издержек, Ливонию, но тут же проговорился, сказавши саксонскому министру Флемингу, что приобретенное Россиею на войне без участия союзников будет принадлежать России. Из Торуня Петр отправился по Висле в Мариенвердер и там виделся с прусским королем; с ним также заключил он договор против Швеции. Царь оттуда прибыл в Курляндию, а Шереметев с 40 000-ным войском, в начале октября, подошел к Риге. Сам Петр прибыл к войску, сделал осмотр окрестностей Риги и 14 ноября собственноручно пустил в Ригу три бомбы; затем он оставил 7000 войска держать в блокаде город до весны, а остальное войско приказал расположить по квартирам в Ливонии и Курляндии. Из-под Риги Петр через Петербург отправился в Москву и в декабре устроил себе и своим генералам торжественное вшествие в Москву через семь триумфальных ворот, украшенных всевозможными символическими знаками. Церемонии, речи, потешные огни и пиры продолжались в течение нескольких дней.
Полтавская битва получила в русской истории такое значение, какого не имела перед тем никакая другая. Шведская сила была надломлена; Швеция, со времен Густава-Адольфа занимавшая первоклассное место в ряду европейских держав, потеряла его навсегда, уступивши России. Унизительный Столбовский мир, лишавший Россию выхода в море, теперь невозвратимо уничтожился. Берега Балтийского моря, завоеванные Петром, невозможно было уже отнять от России. В глазах всей Европы Россия, до сих пор презираемая, показала, что она уже в состоянии, по своим средствам и военному образованию, бороться с европейскими державами и, следовательно, имела право, чтобы другие державы обращались с нею, как с равною. Наконец, с этого времени деятельность Петра, до сих пор поглощаемая войною и сбором средств для войны, гораздо больше обратилась на внутреннее устройство страны.
Еще в конце 1708 года состоялось важное распоряжение о разделении всей России на губернии. Учреждено было восемь губерний: Ингерманландская, Архангельская, Московская, Смоленская, Киевская, Азовская, Казанская и Сибирская.
Всех городов в восьми губерниях было в то время 339, а из них 25 приписанных к корабельным воронежским делам в Азовской губернии.
В 1709 году все внимание Петра было поглощено войною. Внутренние распоряжения клонились исключительно к доставлению средств, которые, однако, при всех усиленных мерах, оказывались недействительными. На деле совершалось не то, что на бумаге. Откупщики, бравшие на откуп казенные доходы, объявляли себя несостоятельными. Пчелиные промыслы, обложенные с 1704 года налогом, не приносили доходов, потому что владетели пасек не представляли о них отписей и не платили в казну ничего: поэтому велено было сделать новый пересмотр пасек и бортных урожаев и обложить их по 1-му рублю 3 алтына и 2 деньги за пуд меду, тогда как прежде в казну брали только по два фунта с улья и по 8 денег. Несмотря на все меры, недоимки по всем статьям оставались за несколько лет невнесенными, не было возможности их собрать, и, наконец, правительство должно было в ноябре 1709 года скинуть все прежние недоимки и взыскивать только за два последние года. Впрочем, последующие указы противоречили предыдущим; после скидки старых недоимок, осенью 1711 года, велено было взыскивать недоплаченные деньги с 1705 года.
После победы над шведами, Петр, считая свой любимый Петербург уже крепким за Россией, принялся за устройство его более энергическим образом, а это послужило поводом к такому отягощению народа, с каким едва могли сравниться все другие меры. В 1708 году выслано было в Петербург сорок тысяч рабочих. В декабре 1709 года со всех посадов и уездов, с дворцовых, церковных, монастырских и частных имений велено было собрать, кроме каменщиков и кирпичников, такое же число – 40 000 человек и пригнать на работу в Петербург. На хлеб и на жалованье рабочим, по полтине в месяц, назначено собрать с тех дворов, с которых не было взято рабочих, что составило сумму 100 000 рублей. В 1710 году из Московской губернии велено было взять в Петербург 3000 рабочих, распределив их по десяткам, так что в каждом десятке был плотник с инструментами, и жалованье назначено ему по рублю в месяц; в том же году велено выслать к следующему 1711 году на две перемены по 6075 человек, приставивши к ним приказчиков из тех селений, из которых будут выбраны работники. Независимо от этого отправляли таким же образом рабочих в Азов 13-го июня 1710 года; на сто верст кругом Москвы велено было набрать молодых людей от пятнадцати до двадцати лет и отправить в матросы в Петербург. В 1711 году опять потребовали в Петербург новых 40 000 рабочих и приказали собрать на них 100 000 рублей. Но полное число требуемых работников не высылалось, потому что много дворов, значившихся по книгам, оставались на деле пустыми. Хлебный провиант, для продовольствия этих рабочих людей, собирался со всего государства по числу дворов, и каждый год оставались недоимки, которых сумма все более и более возрастала против прежних лет. Так, например, из 60 589 четвертей, следуемых к сбору в казну на провиант из дворцовых и помещичьих имений, в 1708 году не доплачено 22 729; в 1709 – 32 692; в 1710 – 36 331; то же с имений церковного ведомства: из 34 127 четвертей в недоимке было: в 1707 году – 7000 четвертей; в 1708–8586; в 1709 – 14 251; в 1710 – 19 308 четвертей.
Судостроительные работы не ограничивались одним Петербургом: строились шнявы в Олонце, где начальствовал над работами голландец Дефогельдедам. В Архангельске строились суда под наблюдением голландца Вреверса, построившего там большой фрегат. В Московской губернии, на Дубенской и Нерльской пристанях, строились суда, называемые «тялками», для спуска с казенными запасами. В Казани устроена была верфь и строились суда, называемые «семяками» и «тялками»; там на верфи работала толпа голландцев и русских рабочих, под наблюдением мастера Тромпа; государь послал к нему учиться молодых дворянских детей. Близ Воронежа продолжалось кораблестроительное дело в Таврове и Усерде, и для того в сентябре 1711 года велено выслать туда 1400 плотников.
Рекрутские наборы шли своим чередом; возникшая тогда война с Турцией потребовала усиления рекрутчины. В 1711 году собрано со всех губерний, кроме Петербургской, 20 000 рекрут и, кроме того, деньги на обмундирование их и на провиант для продовольствия, а также 7000 лошадей с фуражом или деньгами за овес и сено в течение восьми месяцев: приходилось с 26 дворов по одному рекруту, а с 74 дворов по одной лошади. С имений церковного ведомства собирался провиант на войско в размере хлеба по 5 четвериков со двора и по четверику круп с 5 дворов. По отношению к дворовому числу, все восемь губерний разделены были на доли, всех долей было 146, одних дворов было 798 256. Сбор провианта сопровождался жалобами жителей, что люди, присылаемые войсковыми командирами, причиняют крестьянам убытки и разорения; но на такие жалобы мало обращалось внимания. Настоятельные потребности содержать войско вынуждали правительство, в ответ на жалобы, строго предписывать поскорее собирать провиант и доставлять его по назначению. Губернаторам угрожали наказанием, как изменникам, за несвоевременное исполнение указов, а рекруты беспрестанно бегали со службы; чтоб предупредить побеги, их обязывали круговою порукою, грозили ссылкою за побег рекрута его родителям, налагали штраф по пятнадцати рублей за передержку беглого. Но побеги от этого не прекращались, а иные помещики умышленно укрывали количество своих крестьян и уклонялись от рекрутской повинности. Села пустели от многих поборов; беглецы собирались в разбойничьи шайки, состоявшие большею частью из беглых солдат. Они нападали на владельческие усадьбы и на деревни, грабили и сжигали их, истребляли лошадей, скот, рассыпали хлеб из житниц, увозили с собою женщин и девиц для поругания. По просьбе помещиков, живших в уездах около Москвы, отправляемы были нарочные сыщики, которые собирали отставных дворян, разных служилых людей и крестьян на ловлю разбойников. Около Твери и Ярославля разбойничьи шайки разгуливали совершенно безнаказанно, потому что, за отправкою дворян молодых и здоровых на службу и за взятием множества людей в Петербург на работу, некому было ловить их. Разбойники бушевали в Клинском, Волоцком, Можайском, Белозерском, Пошехонском и Старорусском уездах, останавливали партии рекрут, забирали их в свои шайки и производили пожары. Государь в октябре 1711 года отправил для розыска разбойников полковника Козина с отрядом; отставные дворяне и дети боярские обязаны были, по требованию последнего, приставать к нему и вместе с ним ловить разбойников, которых немедленно следовало судить и казнить смертию. В 1714 году повелено казнить смертию только за разбой с убийством, а за разбои, совершенные без убийства, ссылать в каторгу, с вырезкою ноздрей.
Рядом с разбойниками проявлялись фальшивые монетчики – воровские денежные мастера. Строгие меры против них были тягостны не только для самых преступников, но и для неосторожных покупателей, потому что всякого, у кого случайно находили воровские деньги, тащили на расправу. Кроме фальшивой монеты домашнего изобретения, в Архангельск привозили такую же иностранцы. Чтобы прекратить в народе обращение ее, в мае 1711 года были уничтожены старинные мелкие деньги; а вместо них начали чеканить рубли, полтинники, полуполтинники, гривенники, пятикопеечники и алтынники. Северная половина России страдала от поджогов и от случайных пожаров, которые вынуждали предупредительные меры: в мае 1711 года, по сенатскому указу, велено в городах заводить инструменты для погашения огня – крючья, щиты, трубы, ломы и т. п. и раздать по гарнизонным полкам, которые обязаны были охранять города от огня. Но эти спасительные меры были более на бумаге, чем на деле, потому что долго потом не приобретались инструменты, да и самая сумма на эти предметы, простиравшаяся до 110 000 рублей, не слишком была достаточна. Города Псков, Торжок, Кашин, Ярославль и другие дошли до такого разорения, что современники находили едва возможным поправиться им в течение пятидесяти лет. Много народа вымирало, много разбегалось. В 1711 году насчитывалось в этом крае 89 086 пустых дворов. К увеличению народных бед, в 1710 году появились заразительные болезни, перешедшие из Лифляндии и Польши, где они особенно свирепствовали, и для этого велено было устроить заставы, распечатывать все письма и окуривать можжевельником.
Недостаток средств, при всех усиленных мерах, высказался уже в январе 1710 г., когда государь приказал своей ближней канцелярии счесть доходы с расходами, и оказалось, что приходу 3 015 796 р., а расходу 3 834 418 рублей. Надобно было усиливать строгость сбора доходов. В Москве у всех ворот и проездов больших дорог делали шлагбаумы, где стояли солдаты и брали с каждого воза, ехавшего с какою бы то ни было кладью, мелкую пошлину. Во всем государстве запрещено было, не взирая ни на какое звание, приготовлять вино, а непременно брать из царских кабаков. То была новая тягость для народа; только малороссияне были избавлены от нее; не только в самой гетманщине, но и в великорусских краях, где они поселились, дозволялось им свободное винокурение. Петр ласкал малороссийский народ и освобождал его от поборов, таким гнетом падавших на великороссиян. Марта 11-го 1710 года манифестом царь строго запретил великорусским людям делать оскорбления малоруссам, попрекать их изменою Мазепы, угрожая, в противном случае, жестоким наказанием и даже смертною казнью за важные обиды; но это были только ласки до времени: и за Малороссию Петр готовился приняться.
Самою важною мерою, с целью привести в порядок государственное управление и получать правильно доходы, было учреждение высшего центрального места, под именем сената. Указ об учреждении его последовал в первый раз 22 февраля 1711 года. Сенат был род думы, состоявшей из лиц, назначенных царем, вначале в числе восьми. Сенат, по словам указа, учреждался по причине беспрестанных отлучек самого царя. Он имел право издавать указы, которых все обязаны были слушаться под страхом наказания и даже смертной казни. Сенат ведал суды, наказывал неправильных судей, должен был заботиться о торговле, смотреть за всеми расходами, но главная цель его была собирать деньги, «понеже деньги суть артерия войны», говорит указ. Все сенаторы имели равные голоса. Сенату подведомы были губернаторы, и для каждой губернии в самом сенате учреждались так называемые повытья с подьячими. Канцелярия сената, кроме повытей, имела три стола: секретный, приказный и разрядный; последний заменял упраздненный древний разряд. В канцелярии правительствующего сената должны были находиться неотлучно комиссары из губерний для принимания царских указов, следуемых в губернии и для сообщения сенату сведений по вопросу о нуждах губернии; они вели сношения со своими губерниями через нарочных или через почту.
Вместе с учреждением сената последовало учреждение фискалов. Главный фискал на все государство назывался обер-фискалом. Он должен был надсматривать тайно и проведывать: нет ли упущений и злоупотреблений в сборе казны, не делается ли где неправый суд, и за кем заметит неправду, хотя бы и за знатным лицом, должен объявить перед сенатом; если донос окажется справедливым, то одна половина штрафа, взыскиваемого с виновного, шла в казну, а другая поступала в пользу обер-фискала за открытие злоупотребления. Если даже обер-фискал не докажет справедливость своего доноса, то он за то не отвечал, и никто, под страхом жестокого наказания, не смел выказывать против него досаду. Под ведомством обер-фискала были провинциал-фискалы, с такими же обязанностями и правами в провинциях как и обер-фискал в целом государстве, с тою разницею, что без обер-фискала они не могли призывать в суд важных лиц. Под властью последних состояли городовые фискалы. Собственно по духу своему это не было нововведение, потому что доносничество и прежде служило одним из главных средств поддержания государственной власти, но в первый раз оно получило здесь правильную организацию и самое широкое применение. Фискалы должны были над всеми надсматривать; все должны были всячески им содействовать – все, ради собственной пользы, приглашались к доносничеству. Объявлено было в народе, что если кто, например, донесет на укрывавшегося от службы служилого человека, тот получит в полную собственность деревни того, кто укрывался; или кто донесет на корчемников, торговавших в ущерб казне вином или табаком, тот получит четвертую долю из пожитков виновного. Доносчики освобождались от наказания, хотя бы и не доказали справедливости своего доноса. Опыт скоро показал, что такая мера не прекращала злоупотреблений; напротив, фискалы, пользуясь своим положением, сами дозволяли себе злоупотребления и попадались. Система доносов только способствовала дальнейшей деморализации народа; подобными мерами можно скрепить взаимную государственную связь, но всегда в ущерб связи общественной.
С учреждением сената ратуша хотя не была уничтожена, но потеряла свое прежнее значение, и власть губернаторов стала простираться на торговое сословие. Губернаторам было отдано ямское дело, а ямской приказ был упразднен. На них же возложено было отыскание металлических руд, и особый существовавший до сих пор приказ рудных дел был уничтожен. С целью преобразования монетной системы учреждено особое место, так называемая купецкая палата. Все, у кого были старые деньги, должны были сносить их в купецкую палату и обменивать их на новые.
В купецкой палате сидело двое поставленных на монетном дворе, а к ним присоединялись выборные из гостиной сотни по одному человеку, обязанные клеймить все серебряные и золотые изделия и преследовать тех, которые станут продавать эти изделия без пробы. За первый раз была назначена легкая пеня в 5 рублей, за второй – пеня в 25 рублей и телесное наказание, а за третий – кнут, ссылка и отобрание всего имущества в казну, «чтобы всеконечно истребить воровской вымысел в серебряных и золотых делех». Новая серебряная проба разделялась на 3 разряда: первое – чистое серебро, без всякой лигатуры, второе – 82 пробы и третье – 64. Купецкая палата имела поручение продавать желающим серебро и золото и для приобретения того и другого получала от казны готовые суммы; так, в мае 1711 года с этой целью отпущено было туда 50 000 рублей. Купецкая палата для покупки серебра и золота посылала по ярмаркам доверенных купцов, и тогда кроме таких доверенных лиц никто не смел покупать. Покупка и продажа золота и серебра также очень скоро послужила поводом к злоупотреблениям и наказаниям за эти злоупотребления со стороны правительства: в 1711 году нескольких купцов велено бить батогами за незаконную торговлю золотом и серебром.
Купецкие люди имели право надзора над разными фабриками и заводами, учреждаемыми правительством; таким образом, заведены были в Москве полотняные, скатертные и салфетные фабрики: их отдали купецким людям с тем, чтобы они умножили этот промысел, но с угрозою, что если они не умножат его, то с них возьмется штраф по тысяче рублей с человека. Петр даровал всем без исключения дозволение торговать, под своим, а не под чужим именем, с платежом обыкновенных пошлин, но не переставал ставить промыслы и торговлю в такое положение, чтоб они обогащали казну. Пошлины не уменьшались, напротив – увеличивались, и многие статьи отдавались на откупе с наддачею, т. е. тем, которые преимущественно перед прежними откупщиками давали казне большую откупную сумму; так, хомутная пошлина, взимаемая с извозчиков, а также пошлина с судов – переходили из рук в руки с наддачею. В Архангельске многие статьи вывоза продолжали быть исключительным достоянием казны, таковы были: икра, клей, сало, нефть, смола, лен, поташ, моржовая кость, ворвань, рыба, особенно треска и палтусина, корабельный и пильной лес, доски и юфть. Никто не смел в ущерб казне отпускать за границу этих товаров, а продавать их по мелочи производители могли только доверенным от царя купчинам. Из привозных вещей алмаз, жемчуг и разные драгоценные камни, по указу 1711 г., освобождались от пошлин для того, чтоб заохотить иноземцев привозить их в Россию.
Военные дела, после поражения шведов под Полтавою, несколько времени представляли ряд блестящих успехов, имевших последствием расширение пределов государства. Адмирал Апраксин осадил Выборг; сам царь, в звании контр-адмирала, участвовал в этой осаде, доставляя на кораблях запасы осаждающим. Шведский комендант, приведенный в стесненное положение непрестанным бомбардированием, 12 июля 1710 г. сдался на капитуляцию, выговорив себе свободный проезд в Швецию. Но Петр, давши слово, нарушил его под тем предлогом, что шведы задерживают в Стокгольме русского резидента Хилкова, и приказал увести в Россию военнопленным гарнизон, а многих жителей перевести в Петербург. Рига, осажденная еще осенью 1709 г. Шереметевым, держалась упорно более полугода. Рижский генерал-губернатор Штренберг был человек храбрый и искусный; с чрезвычайным спокойствием он заставлял осажденных выдерживать сильнейшую бомбардировку и недостаток жизненных средств. Но в Риге распространилась заразительная болезнь, и люди умирали в громадном количестве, так что оставалась в живых едва третья часть всех жителей, а всего гарнизону с небольшим тысяча человек. Штренберг сдался на капитуляцию. Шереметев не дозволил уйти природным немцам, принуждая их присягнуть царю на подданство; шведам дали слово отпустить их на родину, но нарушили слово, так же как и под Выборгом, и Штренберг был удержан военнопленным. За Ригою сдался Динамюнде, где также зараза страшно истребила население. 14 августа генерал Боур взял Пернов, таким же образом, как Шереметев Ригу, потом переправился на остров Эзель и овладел Аренсбургом, а 29 сентября сдался Меншикову на капитуляцию Ревель; шведский гарнизон был выпущен. За Ревелем покорилась вся Эстония; таким образом балтийское побережье, которого Петр так добивался, досталось России, и с этих пор навсегда. По выражению одного современника, зараза более самого оружия способствовала Петру овладеть ливонским краем. Около того же времени покорен был генералом Брюсом Кексгольм, древняя Корела. Петр, в память этих приобретений, основал близ Петербурга монастырь Александра Невского, чтобы в глазах народа освящать свои завоевания благословением причисленного к лику святых князя, одержавшего победы над теми же немцами и шведами, которых теперь поражал Петр. Царь понял, что с подчинением прибалтийского края не нужны более суровые приемы, что надлежит, напротив, приласкать новых подданных, уцелевших в разоренном и сильно обезлюдевшем краю. Не только дал он этой стране временные льготы, в которых она нуждалась, но и утвердил навсегда старые права дворянства и гражданства прибалтийского края, обещал неприкосновенность лютеранского исповедания, судов и немецкого языка. Одни туземцы могли быть выбираемы в должности и владеть в крае имениями, которые не могли облагаться личными налогами, кроме постановленных местным земским сеймом. Университету в Пернове царь обещал свое покровительство и объявил, что будет посылать туда русских для обучения. Петр уничтожил все редукции, выдуманные шведским правительством, и утвердил за дворянами те земли, какими они в данное время владели, что сильно успокоило дворянство. Курляндия не была еще покорена и оставалась польским леном, но на деле в то же время подпала иным способом под русскую власть. Петр выдал племянницу свою Анну Ивановну за молодого герцога курляндского, но этот герцог вскоре после брака (10 января 1711 г.) умер, а вдовствующая супруга осталась правительницею Курляндии и жила в Митаве. Петр распоряжался в этой стране по своему произволу, не допустивши до престолонаследия брата покойного герцога Фердинанда. В самой Польше дела складывались так, что русский царь мог распоряжаться этой страной и пролагать России дорогу к ее подчинению. Под видом защиты короля Августа, своего союзника, Петр продолжал держать свои войска в Польше к большой досаде жителей края. На содержание чужеземного войска, по известию современника Отвиновского, приходилось тогда по 38 талеров в месяц с дома. Постой назначен был только в земских или шляхетских имениях: все коронные имения были освобождены от постоя, а из земских имений гетманы и благоприятели гетманов постарались освободить свои собственные имения, расставивши русских солдат по чужим имениям и подвергая последние большей тягости, чем какую несли их собственные. Военные люди, по обычаю того времени, дозволяли себе насилия и бесчинства над жителями. Польские паны жаловались русскому послу князю Григорию Долгорукову, а посол водил их обещаниями; между тем, по царскому приказанию, русские вербовали людей в Польше, иных даже насильно хватали и препровождали в Россию; царь хотел этими навербованными заселить кое-где опустевшие русские местности. Русские отняли у шведов польский город Эльбинг, но Петр не выпускал его из рук и не отдавал Польше. По всему видно, Петр, по отношению к Польше, вступил уже в такую роль союзника, какую обыкновенно в истории разыгрывали сильные и ловкие над слабыми и простоватыми, мало-помалу превращаясь из союзников и друзей в господ и владык. Отношения к западным державам если не представляли для Петра блестящих надежд, то все-таки становились для него благоприятнее, после того как военные успехи заставили Запад уважать Россию. Дания снова вошла с Россией в союз против Швеции, хотя собственно своими военными действиями не приносила России никакой пользы; так, попытка датчан сделать нападение на южные области Швеции окончилась жестоким поражением датского войска. Австрийский дом готовился вступить в свойство с русским домом: Петр сговаривался женить сына на сестре императора Карла, тогда получавшего престол. Голландские Соединенные Штаты и германские владетели провозгласили нейтралитет германских земель для всех вообще участников Северной войны, и если этот нейтралитет ограничивал действия Петра, то еще более был направлен против Карла, который с такою нестесняемостью распоряжался в Саксонии. С Англией у России произошло было неудовольствие: русский посол Матвеев был задержан за долги английскими купцами и подвергся оскорблениям, но вслед за тем прибывший в Россию посол английской королевы Анны извинился пред царем и даже, к удовольствию царя, английская королева, в своих сношениях с Петром, дала ему императорский титул; видимое согласие восстановилось, и в Лондон отправился русский посол князь Куракин. Хотя Англия не слишком дружелюбно смотрела на стремление Петра создать из своего государства морскую державу, но, по крайней мере, не предпринимала ничего враждебного. Со стороны Турции, вначале казалось, нечего было опасаться. Русский посланник в Константинополе Петр Толстой после полтавской победы заключил с Турцией договор, по которому Турция обещала удалить Карла XII из турецких владений, а русский отряд должен был проводить его через Польшу. Но вслед за тем Карл XII, через своего сторонника киевского воеводу Понятовского, сильно старался об уничтожении этого договора и возбуждал турок к войне с Россией. Двое турецких главных визирей, один за другим, были низвержены, и место главного визиря получил паша Балтаджи-Мугамед. Быть может, и при этом визире дело обошлось бы, но Петр сам сделал неосторожность: надеясь на свои силы, он стал угрожать Турции войною, если, согласно заключенному договору, турецкое правительство не спровадит из своих владений шведского короля. Царя раздражало еще и то, что, по смерти Мазепы, бежавшего в Турцию, его сторонники, с позволения султана, избрали себе новым гетманом бывшего при Мазепе генеральным писарем Орлика. Угрозы Петра так раздражили султана и диван его, что 20 ноября 1710 года объявлена была война России, и, по обычаю турецкому, посол русский Толстой заключен был в Едикул (Семибашенный замок). Получивши объявление войны, Петр отправил войска свои к турецким границам и 6 марта 1711 г. выехал сам к войску из Москвы вместе с Екатериною Алексеевною, которая с этого времени стала в близком к царю кругу называться царскою женою и царицею.
Эта Екатерина Алексеевна была та самая бедная мариенбургская пленница Марта Скавронская, которую взял Шереметев вместе с пастором Глюком. Бывшая возлюбленная Петра Анна Монс, для которой он заключил свою жену, Евдокию, изменила ему. Еще в 1702 году, при взятии Шлиссельбурга, нечаянно утонул провожавший Петра в походе саксонский посланник Кенигсек. Из кармана утопленника вынуты были любовные письма к нему царской возлюбленной. Анна за это содержалась в заключении три года; потом, уже выпущенная на свободу, сошлась с прусским посланником Кайзерлингом. Петр жил со Скавронской, и она время от времени все более и более овладевала его чувством. Путь Петра лежал через Польшу, куда, к неудовольствию многих поляков, стянулось русское войско. В Ярославле (галицком) Петр свиделся с Августом; они (30 мая) заключили новый договор на таком условии: Петр будет воевать с турками, Август с польскими войсками и вспомогательным отрядом русских от 8000 до 10 000 в Померании со шведами. Поляки, соображая, что русский царь теперь в них нуждается, домогались: отдачи им Ливонии, права заселять Украину правого берега Днепра, остававшуюся впусте; домогались свободы католического вероисповедания в России, требовали вывода русских войск из Польши и вознаграждения за взятые насильно контрибуции. Петр на все давал двусмысленные обещания, отлагая их исполнение до окончания войны. Тут явились у Петра еще союзники: христиане, находившиеся в порабощении турок. Еще до разрыва с Турциею, единоверные и единоплеменные России сербы присылали к царю предлагать свои услуги в случае войны с басурманом, и это, без сомнения, в числе других причин, побуждало Петра не бояться раздражить турок угрозами и вызвать их на объявление войны. Зимой серб полковник Милорадович начал от царского имени возбуждать к восстанию черногорцев. По приезде царя в Польшу заявили к нему свое расположение и готовность помогать в борьбе с турками господари валахский и молдавский. Во время бегства Карла XII в турецкие владения молдавским господарем был Михаил Раковица, расположенный к России и обещавший Петру свое содействие. Но прежде чем он мог показать на деле свое расположение к России, Турция свергла его с господарства, назначив вместо него Маврокордато, а потом, по настоянию крымского хана, лишила господарства и Маврокордато, назначив на место его Димитрия Кантемира. Ему покровительствовал крымский хан, а Турция, оказывая Кантемиру доверие, обещала ему еще и валахское господарство, если он поймает и доставит в турецкие руки бывшего тогда господарем Валахии Бранкована, своего давнего врага. Бранкован первый обратился к Петру через своего посланца Давыда и обещал русскому войску свое содействие, когда оно вступит в турецкие владения. Вслед за тем обратился к Петру и новопоступивший на молдавское господарство Кантемир, недовольный турецкими поборами и вымогательствами. Надеясь на силу России и желая доставить своему роду наследственную власть, он через грека Паликолу заключил с царем (13 апреля 1711 г. в Луцке) договор: отдать Молдавию России с тем, что он и его потомки будут там вассальными владетелями; затем, если предприятие не удастся, он выговаривал себе два дома в Москве и поместья в России. Государь, узнавши, что между Кантемиром и Бранкованом существует вражда и соперничество, старался помирить их. По настоянию Петра, и тот и другой обослались между собою посольствами, но искренности между ними не было. И тот и другой имели в виду свои частные выгоды. Кантемир, входя в союз с русским царем, в то же время притворялся пред турецким правительством и уверял, что сносится дружелюбно с неприятелем с целью удобнее выведать об его намерениях и силах.
Царь прежде всего выслал с половиною войска Шереметева, приказывая ему идти за Дунай, а сам следовал за ним к Днепру. Петр воображал, что как только русское войско явится в турецких пределах, – все христиане: и валахи, и сербы и болгары, поднимутся против мусульман. Но Шереметев, перешедши Днепр, нашел, что идти прямо на Дунай опасно: у него недоставало провианта, а путь до Дуная требовал многих дней, и страна была опустошена; он соображал, что если он и пройдет до Дуная, то союзника русских Кантемира может подвергнуть опасности, турки тем временем ударят на Молдавию; сверх того, он рассчитывал, что в Молдавии войско не будет нуждаться в пропитании. Шереметев направился в Молдавию и прибыл в Яссы; за ним следовал Петр по тем же соображениям о средствах содержания войска. Кантемир до сих пор вел сношения с Россиею тайно от совета своих бояр; но тогда, когда Шереметев с русским войском вступил в Молдавию, надобно было открыть тайну. Кантемир созвал всех бояр и объявил, что пристает к Петру. Некоторые с радостью объявили, что разделяют его чувствования; но не все так показали себя, потому что не все надеялись на успех. 5 июня Кантемир сам прибыл к Шереметеву в обоз его. После того прибыл к своему войску Петр и 24 июня посетил Яссы, вместе с Екатериною. На другой день русскому государю Кантемир устроил в своем дворце торжественный обед с приличною попойкою, а жена Кантемира особо угощала Екатерину. Царь несколько дней осматривал Яссы и 27 числа праздновал день Полтавской битвы. Молдавский народ с любопытством бегал за ним и радовался, увидя в первый раз в стенах своей столицы сильного государя православной веры. Петр поражал всех своею простотою и подвижностью. Он оказывал Кантемиру публично знаки любви, обнимал и целовал его. Кантемир воспользовался этим, чтобы очернить перед государем своего давнего соперника Бранкована, к нему в этом присоединился двоюродный брат Бранкована Кантакузин, замышлявший свергнуть своего господаря, чтобы самому сесть на его место. От этого случилось следующее: Бранкован присылал предложение примириться с Турциею; сам султан, узнавши о вступлении русских сил, поручил ему сношение с Петром; но Петр, настроенный против Бранкована, отверг предложение. Тогда валахский господарь рассчитал, что на русскую помощь надежды мало: враги успеют вооружить против него Петра; гораздо безопаснее оставаться на турецкой стороне. Русским пока мало было пользы от вступления в Молдавию. Кантемир издал манифест о вооружении молдавского народа, и народ по религиозному побуждению откликался сочувственно на такое воззвание, но невоинственные и плохо вооруженные поселяне не великие силы могли внести в общее дело. Русское войско в Молдавии не нашло обильного продовольствия, какое думало было там найти, потому что край был опустошен саранчою, и царь послал отряд под начальством Ренне к Браилову добыть сложенные там, как ему доносили, турецкие запасы. В это время вдруг пришло неожиданное известие, что сильное турецкое войско идет на русских, а с ним и хан крымский со своею ордою. У русских было всего 38 276 человек, у визиря 119 665, а у хана до 70 000, – силы чересчур неравные. Петр поспешно двинулся назад, но неприятели догнали русских и осадили. Петр помышлял уйти из стана вместе с Екатериною и пробраться в отечество через Венгрию; предложено было предводителю молдавского войска Никульче взять на себя обязанность проводника царских особ. Никульче не взялся за это, находя невозможным избегнуть турецких сил, окружавших стан.
Турки сделали нападение; русские отразили его. Но это не могло подавать больших надежд Петру. У него не было провианта; турки могли переморить русских осадой.
В таком отчаянном положении министры Петра увидали единственное средство попытаться склонить визиря к миру подарками, так как турки были на них чрезвычайно падки. Шереметев написал визирю письмо и предлагал устроить взаимными силами примирение между воюющими государствами: Россиею и Турциею. Визирь несколько времени не отвечал. Он видел слишком много надежд на выигрыш; и другие турецкие военачальники разделяли его взгляды. Но когда визирь двинул свои силы в бой, янычары заволновались. «У нас, – кричали они, – и так перебито много товарищей, и многие из оставшихся в живых покрыты ранами. Султан хочет мира, а визирь против его воли шлет нас на убой». Такой ропот подчиненных сделал визиря уступчивее. Он отправил в русский стан с ответом Шереметеву Черкес-Мехемед-пашу. Визирь писал, что он не прочь от мира, честного и выгодного для Турции. Когда, после получения такого ответа, Петр собрал на совет приближенных, Екатерина оказала тогда не бесполезное участие. Об этом свидетельствовал сам Петр, когда, короновавши ее императрицей спустя уже двенадцать лет, вспоминал о важных услугах, оказанных ею при Пруте. Иностранные историки объясняли эти услуги, говоря, что Екатерина предложила отдать визирю все свои вещи и деньги.
Как бы то ни было, послан был к визирю подканцлер Шафиров с обещаниями визирю 150 т. рублей, а другим турецким чинам обещаны меньшие суммы. Шафирову дано было полномочие заключить условия мира. Визирь и турецкие чиновники сообразили, что хотя бы они могли уничтожить русское войско, но все-таки не иначе как с большою потерею собственных воинов. Мир постановлен был при Пруте на таких условиях: Петр уступал Азов со всем побережьем, обязываясь срыть основанные там русские городки, и обещал не мешаться в польские дела, а шведскому королю предоставлял свободный проход в его отечество.
Карлу XII не по сердцу был этот мир, и он, оставаясь в турецких владениях, успел вооружить султана против визиря: последнего отрешили и сослали, а потом, как говорят, удавили. В пользу шведского короля действовал при цареградском дворе французский посол.
Между тем Карл XII, простоявши несколько месяцев в Блоне, в январе 1706 года, несмотря на суровую зиму, бросился на Гродно, думая захватить там Августа; Август хотя и не достался в руки Карла, успевши ранее выйти из Гродно с четырьмя русскими полками и соединиться со своим генералом Шиленбергом, но 2-го февраля, вместе с этим своим генералом, был разбит наголову шведским генералом Реншильдом. Карл простоял под Гродно до конца марта, пытаясь взять этот город, защищаемый Огильви; наконец, по приказанию Петра, Огильви вырвался из осады и ушел, потерявши значительное число русского войска от болезней и недостатка в припасах. Карл из-под Гродно не преследовал его, а ушел на Волынь и расположил там свое войско, пользуясь изобилием, господствовавшим в стране, и облагал тяжелыми контрибуциями имения панов, придерживавшихся стороны Августа. Пребывание Карла на Волыни заставляло Петра опасаться, чтобы шведский король не ворвался в Украину, и, в предупреждение этого, Петр сначала отправил в Киев Меншикова, а 4-го июля сам прибыл туда в первый раз в жизни и, пробывши там полтора месяца, заложил нынешнюю Печерскую крепость. Он оставил Украину только тогда, когда получил известие, что Карл вышел из Волыни в противоположную сторону. Петр поскакал в Петербург, а в Польшу отправил войско под начальством Меншикова; фельдмаршал Огильви был уволен.
Карл XII на этот раз решился нанести вред своему врагу в его наследственных владениях; оставивши генерала Мардефельда в Польше, он вступил в Саксонию и начал, по своему обычаю, налагать на жителей тяжелую контрибуцию. Тут Август, испугавшись за свои наследственные земли, отправил к шведскому королю своего министра Пфингтена просить мира, и этот уполномоченный от имени своего короля заключил со Швециею, в замке Альтранштадте, близ Лейпцига, договор, по которому Август отрекался от польской короны в пользу Станислава Лещинского, разрывал союз с русским царем, обязывался отпустить всех пленных и выдать изменников, в ряду которых Паткуль занимал первое место. Пфингтен привез своему королю этот договор для утверждения 4-го октября в Пиотроков, где был и Меншиков со своими войсками. Король тайно утвердил договор, но Меншикову об этом не сказал, так что Меншиков, вместе с русскими и саксонскими войсками, продолжал воевать со шведами в качестве союзника Августа. Не подавая Меншикову вида о состоявшемся примирении, Август, однако, дал сам об этом тихонько знать шведскому генералу Мардефельду, но Мардефельд, не получая еще о том же известия от своего короля, не поверил Августу и вступил в битву с Меншиковым у Калиша. С Мардефельдом, кроме шведов, были и поляки (по русским известиям до 20 000). 18-го октября произошла битва, кончившаяся полною победою русских. Победа эта произвела большое торжество в России; Август продолжал таиться перед Меншиковым, вместе с ним совершал благодарственные молебствия о победе, отпустил Меншикова с войском на Волынь и продолжал скрывать от русского посла Василия Долгорукова заключенный со шведами мир, пока нельзя было долее скрывать тайны. Карл обнародовал Альтранштадтский мир; тогда Август уверял Долгорукова, что он заключил мир только видимый, чтобы спасти Саксонию от разорения, а как только Карл выйдет из его владений, так он тотчас нарушит этот мир и заключит опять союз с царем. Следствием Альтранштадтского мира была выдача Паткуля. Военные обстоятельства были поводом, что главнейшая деятельность Петра во внутреннем устроении государства клонилась к возможно большему обогащению казны и к доставке средств для ведения войны. Этой цели соответствовали почти все нововведения того времени, получившие впоследствии самобытный характер в сфере преобразований. Таким образом для правильного и полного взимания поборов необходимо было привести в известность количество жителей в государстве, и для того учреждены, в 1702 году, метрические книги для записки крещенных, умерших и сочетавшихся браком.
В 1705 году велено было переписать всех торговых людей с показанием их промыслов. Промыслы на Северном море (китовые, тресковые и моржевые), производившиеся до сих пор вольными людьми, отданы исключительно компании, во главе которой был Меншиков. С тою же целью – умножения казны – сделаны были важные перемены в делопроизводстве. Еще в 1701 году устроены были в городах крепостные избы и установлены надсмотрщики, которые должны были записывать всякую передачу имуществ, всякие договоры и условия. В 1703 году не только в городах, но и в селах велено было заключать всякие условия с рабочими, извозчиками, промышленниками не иначе, как с записью и платежом пошлин. Потребность в солдатах повела к самым крайним средствам привлечения народа в военную службу. В январе 1703 года всех кабальных, оставшихся после смерти помещиков и вотчинников, велено сгонять и записывать в солдаты и матросы, а в октябре того же года у всех служилых и торговых людей велено взять в солдаты из их дворовых людей пятого, а из деловых (т. е. рабочих) седьмого, не моложе двадцати и не старше тридцати лет. Такое же распоряжение коснулось бельцов, клирошан и монашеских детей. Ямщики обязаны были давать с двух дворов по человеку в солдаты. Со всей России велено взять в военную службу воров, содержавшихся под судом. В 1704 году, под угрозою жестокого наказания, велено собраться в Москве детям и свойственникам служилых людей и выбирать из них годных в драгуны и солдаты. Последовал ряд посягательств на всякую собственность. В ноябре 1703 года во всех городах и уездах приказано описать леса на пространстве пятидесяти верст от больших рек и двадцати от малых, а затем вовсе запрещалось во всем государстве рубить большие деревья под опасением десятирублевой пени, а за порубку луба – под страхом смертной казни. Через несколько времени (января 1705 года) сделано было исключение для рубки леса на сани, телеги и мельничные потребы, но отнюдь не на строения, а зато за рубку в заповедных лесах каких бы то ни было деревьев назначена смертная казнь. Страсть царя к кораблестроению вынудила эту строгую меру. Январь 1704 года особенно ознаменовался стеснением собственности. Все рыбные ловли, пожалованные на оброк или в вотчину и поместье, приказано отобрать на государя и отдавать с торгов на оброк: для этого была учреждена особая Ижорская канцелярия рыбных дел, под управлением Меншикова. Потребовались повсюду сказки о способе ловли рыбы, об ее качестве, о ценах и пр. Все эти рыбные ловли сдавались в откуп, а затем всякая тайная ловля рыбы вела за собою жестокие пытки и наказания. Описаны были и взяты в казну постоялые дворы, торговые пристани, мельницы, мосты, перевозы, торговые площади и отданы с торгу на оброк. На всяких мастеровых: каменщиков, плотников, портных, хлебников, калачников, разносчиков, – мелочных торговцев и пр., наложены были годовые подати по две гривны с человека, а на чернорабочих по четыре алтына. Хлеб можно было молоть не иначе, как на мельницах, отданных на оброк или откуп, с платежом помола. Оставлены мельницы только помещикам с платежом в казну четвертой доли дохода. Все бани в государстве сдавались на откуп с торгов; запрещалось частным домохозяевам держать у себя бани под страхом пени и ломки строения. Во всем государстве положено было описать все пчельники и обложить оброком. Для всех этих сборов были устроены новые приказы и канцелярии, находившиеся под управлением Меншикова. Через несколько времени банная пошлина была изменена: позволено иметь домовые бани, но платить за них от пяти алтын до трех рублей; а в июне с бань крестьянских и рабочих людей назначена однообразная пошлина по три алтына и две деньги по всему государству. Также в январе 1705 года дозволено частным лицам иметь постоялые дворы, с обязательством платить четвертую часть дохода в казну. Для определения правильного сбора требовались беспрестанно сведения или сказки, что служило поводом к беспрестанным придиркам и наказаниям. Соль во всей России продавалась от казны вдвое против подрядной цены. Табак, с апреля 1705 года, стал продаваться не иначе, как от казны, кабацкими бурмистрами и целовальниками; за продажу табака контрабандою отбирали все имущество и ссылали в Азов: доносчики получали четвертую часть, а тем, которые знали, да не донесли, угрожала потеря половины имущества. В январе того же года учрежден был своеобразный налог: во всем государстве приказано переписать дубовые гробы, отобрать их у гробовщиков, свезти в монастыри и к поповским старостам и продавать вчетверо против покупной цены. Каждый, привозивший покойника, должен был являться с ярлыком, а кто привозил мертвеца без ярлыка, против того священники должны были начинать иск. В этом же месяце введен был налог на бороды: со служилых и приказных людей, а также с торговых и посадских по 60 рублей в год с человека. С гостей и богатых торговцев гостиной сотни по 100 рублей, а с людей низшего звания: боярских людей, ямщиков-извозчиков, по 30 рублей; заплатившие должны были брать из приказа особые знаки, которые постоянно имели при себе, а с крестьян брали за бороды по две деньги всякий раз, как они проходили в ворота из города или в город: для этого были устроены особые караульные, и бурмистры должны были смотреть за этим под страхом конечного разорения. Также подверглось пени русское платье. У городских ворот приставленные целовальники брали за него с пешего 13 алтын 2 деньги, с конного по 2 рубля.
Несмотря на строгие меры и угрозы, повсеместно происходила противозаконная беспошлинная торговля, и царь, чтобы пресечь ее, поощрял доносчиков и подвергал телесному наказанию и лишению половины имущества тех, которые знали и не доносили, хотя бы они были близкие сродники. За всякое корчемство отвечали целые волости и платили огромные пени, для чего и были учреждены особенные выемные головы, которые должны были ездить от города до города по селам и ловить корчемников. Беспрестанно открывалось, что в разных местах продолжали, вопреки царским указам, производить свободно разные промыслы, а в особенности рыбные ловли. И те лица, которые должны были смотреть за казенным интересом, сами делались ослушниками. Кроме всякого рода платежей, несносною тягостью для жителей были разные доставки и казенные поручения, и в этом отношении остались поразительные примеры грубости нравов. Царские чиновники, под предлогом сбора казенного дохода, притесняли и мучили жителей, пользовались случаем брать с них лишнее: удобным средством для этого служил правеж. Со своей стороны, ожесточенные жители oткрыто сопротивлялись царским указам, собираясь толпами, били дубьем чиновников и солдат. Старая привычка обходить и не исполнять закон, постоянно проявляясь, ставила преграды предприятиям Петра. Так, например, несмотря на введение гербовой бумаги, каждый год следовали одно за другим подтверждения о том, чтобы во всех актах и условиях не употреблялась простая бумага. И вообще за всеми распоряжениями правительства следовали уклонения от их исполнения. Торговля, издавна стесняемая в Московском государстве в пользу казны, в это время подверглась множеству новых монополий. Так, торговля дегтем, коломазью, рыбным жиром, мелом, ворванью, салом и смолою отдавалась на откуп, а с 1707 года начала производиться непосредственно от казны через выборных целовальников, с воспрещением кому бы то ни было торговать этими товарами. К разным стеснениям экономического быта присоединялось еще в Москве запрещение строить в одной части Москвы (Китай-городе) деревянные строения, а в других частях – каменные, и приказание делать мостовые из дикого камня. Гости и посадские люди должны были за свой счет возить камень, а крестьяне, приходя в Москву, должны были принести с собою не менее трех камней и отдать у городских ворот городским целовальникам.
Между тем наборы людей в войско шли возрастающим образом: в январе 1705 года с разных городов, посадов и волостей взято было с двадцати дворов по человеку в артиллерию, возрастом от 20 до 30 лет. В феврале положено взять у дьяков подробные сведения об их родственниках и выбрать из них драгун.
В том же феврале со всего государства определено с двадцати дворов взять по рекруту, от 15 до 20 лет возраста холостых, а там, где меньше двадцати дворов – складываться. Этим новобранцам должны были сдатчики доставить обувь, шубы, кушаки, чулки и шапки; если кто из этих рекрут убегал или умирал, то на его место брали другого. Затем встречаем мы последовательно наборы рекрут в войско. В декабре 1705 года назначен набор по человеку с 20 дв., то же повторилось в марте 1706, потом в 1707 и 1708 годах. Кроме того, из боярских людей в 1706 г. взято в боярских вотчинах с 300 дворов, а в других вотчинах со 100 по человеку, а в декабре 1706 г. взято в полки 6000 извозчиков. При поставке рекрут помещики обязаны были давать на них по полтора рубля на каждого; торговые люди обложены были на военные издержки восьмою деньгою с рубля, а те, которые должны были сами служить, но оказывались неспособными к службе, платили пятнадцать рублей. Дьяки и приказные люди в 1707 году были поверстаны в военную службу и должны были из себя составить на собственное иждивение особый полк. Со всех священников и дьяконов наложен сбор драгунских лошадей, с 200 двор. по лошади, а в Москве со 150 дворов. Кроме набора рекрут, царь велел брать рабочих, преимущественно в северных областях, и отсылать их на Олонецкую верфь в Шлиссельбург, а более всего в Петербург. Народ постоянно всеми способами убегал от службы, и царь издавал один за другим строгие указы для преследования беглых; за побег угрожали смертною казнью не только самим беглым, но и тем, которые будут их передерживать, не станут доносить о них и не будут способствовать их поимке. Но беглых солдат было так много, что не было возможности всех казнить, и было принято за правило из трех пойманных одного повесить, а двух бить кнутом и сослать на каторгу. С неменьшею суровостью преследовали беглых крестьян и людей. Передерживавшие беглых такого рода подвергались смертной казни. Беглецы составляли разбойничьи шайки и занимались воровством и грабежом. Принято было за правило казнить из пойманных беглых крестьян и холопов только тех, которые уличены будут в убийстве и разбое, а других наказывать кнутами, налагать клейма, вырезывать ноздри. Последний способ казни был особенно любим Петром. В его бумагах остались собственноручные заметки о том, чтобы инструмент для вырезывания ноздрей устроить так, чтобы он вырывал мясо до костей. Неудовольствие было повсеместное, везде слышался ропот; но везде бродили шпионы, наушники, подглядывали, подслушивали и доносили; за одно неосторожное слово людей хватали, тащили в Преображенский приказ, подвергали неслыханным мукам. «С тех пор, как Бог этого царя на царство послал, – говорил народ русский, – так и светлых дней мы не видим: все рубли, да полтины, да подводы, нет отдыха крестьянину. Это мироед, а не царь – весь мир переел, переводит добрые головы, а на его кутилку и перевода нет!» Множество взятых в солдаты было убито на войне; они оставили жен и детей, и те, скитаясь по России, жаловались на судьбу свою и проклинали царя, с его нововведениями и воинственными затеями. Ревнители старины вопияли против брадобрития и немецкого платья, но их ропот сам по себе не имел бы большой силы без других важных поводов, возбуждавших всеобщее негодование: бритье бород, немецкое платье в эпоху Петра тесно связывались с разорительными поборами и тяжелою войною, истощавшею все силы народа. Ненависть к иностранцам происходила оттого, что иностранцы пользовались и преимуществами, и милостями царя, более природных русских, и позволяли себе презрительно обращаться с русскими.
Народ, естественно, был склонен к бунту; но в средине государства, где было войско и где высший класс был за царя, взрыву явиться было неудобно. Бунты начали вспыхивать на окраинах, как то и прежде не раз делалось в истории Московского государства. Летом 1705 года началось волнение в Астрахани; заводчиками бунта были съехавшиеся туда торговцы из разных городов, астраханские земские бурмистры и стрелецкие пятидесятники. Начали толковать, что Петр вовсе не сын царя Алексея и царицы Натальи: царица родила девочку, а ее подменили чужим мальчиком, и этот мальчик – теперешний царь. Ходили и другого рода слухи: что государь взят в плен и сидит в Стокгольме, а начальные люди изменили христианской вере. Астраханский воевода Ржевский успел сильно раздражить народ ревностным исполнением воли Петра: людей не пускали в церковь в русском платье, обрезывали им полы перед церковными дверьми, насильно брили и на поругание вырывали усы и бороды с мясом, народ отягощали поборами и пошлинами. «С нас, – вопили люди в Астрахани, – берут банные деньги по рублю, с погребов, со всякой сажени по гривне, завели причальные и отвальные пошлины. Привези хворосту хоть на шесть денег в лодке, а привального заплати гривну. В Казани и других городах поставлены немцы, по два, по три человека на дворы, и творят всякие поругательства над женами и детьми». Распространилась молва, что из Казани пришлют в Астрахань немцев и будут за них насильно выдавать девиц. Эта весть до того перепугала астраханцев, что отцы спешили отдавать дочерей замуж, чтоб, оставаясь незамужними, они не достались против воли, как собственной, так и воли их родителей, «некрещеным» немцам: в июле 1705 года было сыграно в один день до ста свадеб, а свадьбы, как следовало, сопровождались попойками, и народ под постоянным влиянием винных паров стал смелее. Ночью толпа ворвалась в Кремль, убила воеводу Ржевского и с ним нескольких человек, в том числе иностранцев: полковника Девиня и капитана Мейера. Мятежники устроили казацкое правление и выбрали главным старшиною ярославского гостя Якова Носова. За астраханцами взбунтовались жители Красного и Черного Яра и, по примеру астраханцев, устроили у себя выборное казацкое правление; но усилия мятежников взволновать донских казаков не имели успеха. Хотя на Дону было слишком много недовольных, но донское правительство, бывшее в руках значных, или так называемых старых казаков, в пору не допустило распоряжаться по-своему голытьбе, состоявшей из беглецов, сбиравшихся на Дон со всей Руси. Государь, узнавши в Митаве о бунте на восточных окраинах, давал ему больше значения, нежели он имел. Петр опасался, чтобы мятеж не охватил всей России, не проник бы и в Москву. Для укрощения его Петр отправил самого фельдмаршала Шереметева и в то же время написал боярину Стрешневу, что нужно бы вывезти из московских приказов казенные деньги, а также и оружие. Шереметеву дан был наказ: отнюдь не делать жестокостей, но объявлять мятежникам прощение, если они покорятся. Шереметев, явившись на Волгу, без всякого затруднения усмирил Черный Яр и, приехавши к Астрахани, послал сызранского посадского Бородулина уговаривать мятежников. Выбранный астраханскими мятежниками старшина Носов не поддавался увещаниям, называл царя обменным царем, говорил, что царь нарушил христианскую веру, что с ними, астраханцами, заодно многие люди в Московском государстве и что они пойдут весною выводить бояр и воевод, доберутся «до царской родни, до немецкой слободы и выведут весь его корень». Они злились особенно на Меншикова, которого звали еретиком. Несмотря, однако, на такие смелые заявления, как только Шереметев, подступивши к Астрахани, ударил из пушек, тотчас мятежники стали сдаваться, и сам Яков Носов вышел с повинною к боярину. Вместо обещанного прощения, мятежников начали отправлять в Москву и там, после продолжительных и мучительных пыток, предали колесованию. Так погибло 365 человек. Но из армии самого Шереметева множество солдат бежало в то время, как он возвращался из Астрахани.
Невыносимые поборы и жестокие истязания, которые повсюду совершались над народом при взимании налогов и повинностей, приводили народ в ожесточение. Народ бежал на Дон и в украинные земли; по рекам: Бузулуку, Медведице, Битюгу, Хопру, Донцу завелись так называемые верховые казачьи городки, населенные сплошь беглецами. Эти верховые городки не хотели знать никаких податей, ни работ, ненавидели Петра и его правление, готовы были сопротивляться вооруженною рукою царской ратной силе. В 1707 году царь отправил на Дон полковника, князя Юрия Долгорукова, требовать, чтобы донские казаки выдали всех беглых, скрывавшихся на Дону; старшины показали вид покорности, но между простыми казаками поднялся сильный ропот, тем более, когда в то же время объявлено было казакам приказание царя брить бороды. Донские казаки считали своею давнею привилегиею давать убежище всем беглым. Когда полковник князь Долгорукий со своим отрядом и с пятью казаками, данными старшиною, отправился для отыскания беглых, атаман Кондратий Булавин, из Трехизбянской станицы на Донце, напал на него 9-го октября 1707 года на реке Айдаре, в Ульгинском городке, убил его, перебил всех людей и начал возмущать донецкие городки, населенные беглыми. В этих городках встречали его с хлебом и медом. Булавин составил план взбунтовать все украинные городки, произвести мятеж в донском казачестве, потом взять Азов и Таганрог, освободить всех каторжных и ссыльных и, усиливши ими свое казацкое войско, идти на Воронеж, а потом и на самую Москву. Но прежде чем Булавин успел возмутить городки придонецкого края, донской атаман Лукьян Максимов быстро пошел на Булавина, разбил и прогнал, а взятых в плен его сотоварищей перевешал за ноги. Булавин бежал в Запорожье, провел там зиму, весною явился опять в верхних казачьих городках с толпою удалых и начал рассылать грамоты; в них он рассказывал, будто Долгорукий, им убитый, производил со своими людьми в казачьих городках разные неистовства: вешал по деревьям младенцев, кнутом бил взрослых, резал им носы и уши, выжег часовни со святынею. Булавин, в своих воззваниях, убеждал и начальных лиц, и простых посадских, и черных людей стать единодушно за святую веру и друг за друга против князей, бояр, прибыльщиков и немцев. Он давал повеление выпускать всех заключенных из тюрем и грозил смертною казнью всякому, кто будет обижать или бить своего брата. Донской атаман Максимов пошел на него снова, но значительная часть его казаков перешла к Булавину. В руки воровского атамана досталось 8000 р. денег, присланных из Москвы казакам. Сам Максимов едва бежал в Черкассы. Эта победа подняла значение Булавина. За нею поднялись двенадцать городков на северном Донце, двадцать шесть – на Хопре, шестнадцать – на Бузулуке, четырнадцать – на Медведице. Восстание отозвалось даже в окрестностях Тамбова: и там в селах крестьяне волновались и самовольно учреждали у себя казацкое устройство.
В Пристанном городке на Хопре Булавин собрал сходку из обитателей разных городков и разослал по сторонам «прелестные» письма. Он требовал, чтобы отовсюду половина жителей шла в сход за веру и за царя (!) для того, что злые бояре и немцы злоумышляют, жгут и казнят народ, вводят русских людей в еллинскую веру. «Ведаете сами, молодцы, – писал Булавин, – как деды ваши и отцы положили и в чем вы породились; прежде сего старое поле крепко было и держалось, а ныне те злые люди старое поле перевели, ни во что почли, и чтоб вам старое поле не истерять, а мне, Булавину, запорожские казаки слово дали, и белогородская орда и иные орды, чтоб быть с вами заодно. А буде кто или которая станица тому войсковому письму будут противны, пополам верстаться не станут, или кто в десятки не поверстается, и тому казаку будет смертная казнь».
Задачею мятежа, как и при Стеньке Разине, было расширить область казачества. Средоточием его признавался Дон и донское казачье войско, которое на поэтическом русском народном языке носило название, как наименование своего отечества, Тихий Дон. Те города и поселения, которые пристанут к мятежу и введут у себя казачье устройство, тем самым присоединялись к Дону или казачьему войску. В украинных городах жители, состоявшие из беглых, самовольно назывались казаками; из таких-то Булавин составил отряды под начальством предводителей, нареченных, по казацкому обычаю, атаманами: то были Хохлач, Драный, Голый, Строка. Булавин отправил их по украинным городкам, а сам бросился на Черкасск. 1 мая в Черкасске казаки взбунтовались и выдали Булавину верного царю атамана Лукьяна Максимова и с ним старшину. 6 числа того же месяца круг, собранный в Скородумовской станице, их всех в числе шести человек осудил на смерть. Им отрубили головы; Булавин провозглашен был атаманом всех рек. Булавин не приказал в церквах молиться за царя и разослал во все стороны прелестные письма, уверял, что поднялся за всех маломочных людей, за благочестие, за предания седьми соборов, за старую истинную веру; извещал, что казаки намерены отложиться от царя за то, что царь перевел христианскую веру в своем царстве, бреет бороды и тайные уды у мужчин и у женщин, и потому казаки, вместо русского царя, хотят признать над собою власть царя турецкого. И Булавин, вслед за тем, через кубанских мурз послал письмо к турецкому султану. «Нашему государю, – писал он, – отнюдь не верь, потому что он многие земли разорил за мирным состоянием, и теперь разоряет, и готовит суда и войско на турецкую державу».
Булавин прежде всего надеялся на украинные городки, но дело восстания пошло там плохо. Для усмирения мятежа Петр послал майора гвардии князя Василия Владимировича Долгорукого и дал ему приказание истреблять городки, основанные в глухих местах и населенные беглыми. Петр полагал, что эти-то городки составляют зерно мятежа. Царь приказывал Василию Долгорукому руководствоваться записанными в книгах поступками князя Юрия Долгорукого, прекращавшего мятеж в восточных областях России, возбужденный Стенькою Разиным. Князь Василий Долгорукий должен был все жечь, людей рубить без разбора, а наиболее виноватых – колесовать, четвертовать, сажать на колья. Кроме Долгорукого, действовать против мятежников должны были: стольник Бахметев и слободские малороссийские полки. Воровской атаман Голый успел было напасть на речке Уразовой (Валуйского уезда) на Сумской слободской полк, разбил его в пух и убил сумского полковника; но Бахметев разбил на речке Курлаке Хохлача, пробиравшегося к Воронежу с намерением освободить там тюремных сидельцев, перебить начальных людей и иноземцев. Атаман Драный был разбит и убит в битве на реке Горе бригадиром Шидловским; тысяча пятьсот запорожцев, помогавших Драному, сдались, и все были истреблены. Наконец, посланный Булавиным к Азову отряд в числе пяти тысяч был отбит с большим уроном. Эти неудачи сразу лишили Булавина доверия. Донские казаки, как показывает вся их история, не отличались постоянством: они склонны были начинать мятежи, но упорно вести их не были способны; всегда между ними находилось много таких, которые искушались случаем выдавать свою возмутившуюся братию, показать перед верховною властью свое раскаяние и через то остаться в выигрыше. Против Булавина составился заговор, как только счастье изменило Булавину в его предприятии. Руководителем заговора был товарищ Булавина, Илья Зерщиков. 7 июля напали заговорщики на своего главного атамана. Булавин отстреливался, убил двоих казаков, но потом, увидавши, что врагов много и ему не сладить с ними, убежал в курень и застрелился из пистолета. Зерщиков, избранный атаманом, от имени всего войска принес царю повинную. Долгорукий занял Черкасск и обошелся милостиво, чтоб не раздражить казаков. Украинные городки, носившие название верховых, осуждены были на истребление, а потому бунт, прекратившись в земле донских казаков, не прекратился в великорусской Украине. Беглые, населявшие опальные городки, не ожидали себе никакого милосердия и поневоле в отчаянии должны были резаться до последней степени. Атаман Некрасов, с шайкою самозванных казаков, бросился было на восток и хотел взять Саратов, от которого был отбит калмыками, а тем временем Долгорукий взял его постоянное местопребывание – Асаулов городок на Дону; главных заводчиков, там найденных, приказал четвертовать, а множество других повесить: тогда несколько сот виселиц, с повешенными на них мятежниками, было поставлено на плотах и пущено по Дону. Некрасов, услышавши о разорении своего городка, убежал на Кубань с двухтысячною шайкою и отдался под власть крымского хана. По его следам пошли другие из донских станиц, преданных расколу, и так положено было начало казаков некрасовцев, которые поселились на берегу Черного моря между Темрюком и Таманью, а в 1778 году ушли в Турцию.
Из всех атаманов упорнее показал себя Никита Голый. Он хотел продолжать дело Булавина и рассылал прелестные письма. «Идите, – писал он, – идите, голытьба, идите со всех городов, нагие, босые: будут у вас и кони, и оружие, и денежное жалованье». Мятеж длился несколько времени в южной части воронежской губернии и в харьковской, но удачи мятежникам не было. Острогожского слободского полка полковник Тевяшов и подполковник Рикман 26 июля разбили при урочище Сальцова Яруга воровское полчище и взяли в плен атамана Семена Карпова, потом побрали и поразоряли городки: Ревеньки, Закатный, Билянский, Айдарский. Голый не унывал, собирал последние силы и укрепился в Донецком городке с другим атаманом, Колычевым. 26 октября Долгорукий с Тевяшовым взяли и этот городок, сожгли его, многих захваченных истребили, но Голый с Колычевым убежал. Долгорукий догнал его на Дону у Решетовой станицы. У Голого было восемь тысяч. Он вступил в битву. Вся его шайка погибла; множество мятежников потонуло; попавшиеся в плен были казнены. Но Голый еще раз спасся бегством. По царскому приказанию были сожжены все городки по берегам рек Хопра, Медведицы до Устьмедведицкой станицы, Донца до Лугани, и по всему протяжению рек: Айдара, Бузулука, Деркула, Черной Калитвы. Все обитатели этих городков, те, на которых падало обвинение в участии в мятеже, истреблены, прочих перевели в другие местности, где с них удобнее было требовать платежа налогов и отправления повинностей.
III. От Альтранштадтского мира до Прутского мира России с Турцией
Народное восстание беспокоило Петра на востоке государства, а с запада готовилось вторжение шведов. После примирения Августа с Карлом и отказа польского короля от короны, Польша оставалась в неопределенном положении. Приходилось полякам: или признать королем Станислава, навязанного им чужеземною силою, или выбирать нового. Если бы у них доставало политического смысла и гражданского мужества, то, конечно, они бы стремились устроить у себя правительство, не угождая ни Петру, ни Карлу. Но тут открылось, что польские паны, заправлявшие тогда своим государством, повели уже Речь Посполитую на дорогу к разложению. Влиятельные паны, бывшие сторонники Августа и противники Станислава, составлявшие генеральную конфедерацию, без зазрения совести просили от русского царя подачек за то, что будут держать Речь Посполитую в союзе с Россией и в войне с Карлом. Таким образом, куявский бискуп примас Шенбек, люблинский и мазовецкий воеводы, коронный подканцлер, маршалок конфедерации тайно взяли из рук русского посла Украинцева по нескольку тысяч. Кроме того, Петр дал конфедерации 20 000 рублей на войско. Петр успел настолько, что генеральная конфедерация, собравшись во Львове, заключила договор с Россией действовать против Карла. Со своей стороны Август, посредством своих благоприятелей, уверял поляков, что он не хочет отказываться от короны. Петр в эту пору ему не доверял и пытался было предложить корону сыну покойного короля Собеского, Якову. Тот отказался. Петр предлагал польскую корону трансильванскому князю Ракочи. Последний не прочь был сделаться польским королем, но не успел составить в Польше себе партии. Наконец Петр предлагал польскую корону знаменитому имперскому полководцу Евгению Савойскому, но тот, так же как и Собеский, не прельстился на опасную корону. Между тем, соображая, что теперь приходилось вести войну с Карлом без союзников, Петр делал попытки примириться с Карлом и для этого искал посредничества в Англии, Австрии, у голландских штатов и даже у Людовика XIV. Но дело не могло пойти на лад, потому что Карл XII не хотел мириться иначе, как на условии, чтобы Россия возвратила все сделанные ею завоевания, а Петр ни за что не хотел мириться иначе, как оставив за собою Петербург. Притом же в Европе вообще господствовало такое мнение, что не следует давать России усиливаться и допускать ее в систему европейских государств. Французский кабинет прямо указывал Турции опасность от усиления России, которая начнет волновать единоплеменные и единоверные народы, находившиеся под властью Оттоманской Порты. В Австрии боялись вредного для нее влияния России на подвластных славян, и особенно православных. Шведские министры настраивали и Англию, и Голландию в таком же враждебном духе, поддерживая мнение, что если Россия усилится, то сделает варварское скифское нашествие на Европу. Одним словом, все стремления Петра сделать Россию европейским государством не только не находили сочувствия в Европе, но возбуждали зависть и боязнь. Вместе с тем на русских продолжали смотреть с высокомерным презрением. В таких-то обстоятельствах Петру оставалось бороться с Карлом один на один. К счастью русского государя, упрямый и своенравный король шведский, не слушаясь советов ни государственных людей, ни опытных полководцев, повел свои действия как можно лучше для России.
Задумавши поход в русские владения, Карл пропустил все лето и осень, простоявши лето в Саксонии, а осень в Польше, и двинулся в поход в Литву зимою, подвергая свое войско и стуже, и недостатку продовольствия; вдобавок он раздражал поляков, не скрывая явного к ним презрения, и без всякой пощады их обирал. Гродно было в руках русских; Карл неожиданно явился под этим городом, думая захватить в нем Петра: русский царь едва двумя часами успел уехать оттуда. Защищавший Гродно бригадир русской армии Мюлендорф, после недолгого сопротивления, впустил в город шведов, а потом, страшась наказания, передался неприятелю. Петр, узнавши, что враг его собирается чрез Белоруссию идти в московские пределы, приказал опустошать Белоруссию, чтоб шведы на пути не находили продовольствия, а сам убежал в Петербург, с горячечною деятельностью занялся укреплением его, приказывал в то же время укреплять Москву, велел даже, при первом опасном случае, вывозить все казенные и церковные сокровища на Белоозеро, делал распоряжения об укреплении других городов: Серпухова, Можайска, Твери, дал повеление жителям, под смертною казнью, не выходить из своих мест жительства и быть готовыми к осаде, приказывал гнать народ на работы для укрепления городов. Петр думал, что с весною придется отчаянным образом защищаться от неприятельского вторжения в пределы государства. Но Карл, вступивши в Литву, стал в местечке Радошковичах и простоял там четыре месяца. Не ранее июня выступил он по пути в Россию на Березину. Там русские, под командой Шереметева и Меншикова, берегли переправу, и 3-го июля в местечке Головчине произошла битва. Русские дрались упорно, но отступили. Шведы могли хвалиться победою, но им она стоила дорого. Положение русских, однако, становилось затруднительным потому, что они не знали, по какому направлению пойдет Карл: на север или на юг, в Смоленск или в Украину? Карл прибыл в Могилев, простоял там около месяца, дожидаясь генерала Левенгаунта с его корпусом в 16 000 чел. из Лифляндии. В августе, не дождавшись Левенгаупта, шведский король выступил, перешел Днепр и двинулся к р. Соже. Русские думали, что он идет на Смоленск. Действительно, Карл шел на север ко Мстиславлю и 29-го августа встретился с русским войском у местечка Доброго. Сам царь участвовал в битве; русские и здесь остались в потере. Карл пошел за ними вслед, имел еще одну стычку с русскими и остановился. Ему оставалось подождать Левенгаупта, который был уже у Шклова, и потом действовать против русских, усиливши свое войско; но Карл 14-го сентября внезапно повернул назад и направился к Украине. Русские не преследовали его и обратили все силы на Левенгаупта. При местечке Лесном, 28-го сентября, русское войско под предводительством Меншикова, в присутствии царя, вступило в кровопролитную битву ночью. Левенгаупт был разбит наголову (до 8000 тысяч шведов было убито; 2673 чел. взято в плен с пушками и знаменами); Левенгаупт успел привести к королю только 6700 человек, и то без всяких запасов.
Карл шел в Украину с большими надеждами. Малороссийский гетман Иван Мазепа вступил с ним в тайный договор, и его тайная присылка к королю с просьбою идти скорее была, как говорили, причиною внезапного поворота королевского. Ни Петр, ни его государственные люди никак не ожидали измены тогдашнего малороссийского гетмана, бывшего одним из самых любимых и доверенных людей у русского государя. Петр ценил его ум, образованность, преданность видам своего государя, наделял его богатствами и отличиями. Мазепа был второй из получивших учрежденный Петром орден Андрея. Но тогдашнее положение Малороссии делало естественным такое явление. С самого Богдана Хмельницкого эта страна находилась в постоянном колебании.
Уступая тяжелым обстоятельствам, малорусс поневоле клонил голову то перед ляхом, то перед «москалем», то перед турком, а в душе не любил никого из них: его заветным желанием было прогнать их всех от себя и жить дома на своей воле. Это между тем было невозможно не только по обстоятельствам, извне влиявшим на Малороссию, но по причине внутренней безладицы, мешавшей всем помыслам и стремлениям направиться к одной цели. Казацкие старшины и вообще люди, у которых горизонт политических воззрений был шире, чем у простолюдинов, пропитаны были совсем иными понятиями, чем какие господствовали у великоруссов. Они чуяли, что русская самодержавная власть посягнет на то, что в Малороссии называлось казацкою вольностию. Уже со стороны великорусских важных лиц делались зловещие намеки на необходимость поставить Малороссию на великорусский образец. По поводу постройки Печерской крепости в Киеве, стали отрывать казаков от хозяйственных занятий и гонять на земляные работы, а великорусские служилые люди, наводнявшие Украину, обращались с туземцами нагло и свирепо. Мазепа был человек своего времени; для него, поставленного на челе власти в своем крае, независимость Малороссии не могла не быть идеалом. При невозможности достигнуть этого идеала он, наравне со своими соотечественниками, мог только втайне вздыхать, а перед великоруссами казался верным слугою царя. Но вдруг явилось искушение и надежда достичь желанной цели. Уже не раз польские сторонники шведского короля делали Мазепе соблазнительные предложения; он их отвергал, потому что не надеялся на успех. Но когда противник Карла и союзник Петра лишился короны, и Петру приходилось теперь одному без союзников бороться с победоносным соперником, когда Петр готовился уже не расширять пределы своего государства, а защищать его средину от неприятельского вторжения, – Мазепа увлекся предположением, что в предстоявшем повороте военных обстоятельств победа останется за шведским королем, и если Малороссия будет упорно стоять за Россию, то Карл отнимет ее у России и отдаст Польше, а потому казалось делом благоразумия заранее стать на сторону Карла, с тем чтобы, после расправы с Петром, Малороссия признана была самостоятельным независимым государством. В этом смысле Мазепа стал вести тайные переговоры, но все еще колебался и не открывал своего замысла никому, кроме самых близких; когда же Карл приблизился к Украине, а Меншиков потребовал гетмана к себе на соединение с великорусскими военными силами для совместного действия против Карла, – Мазепа очутился в роковой необходимости выбирать либо то, либо другое: 24 октября 1708 года он присоединился к шведскому войску с несколькими лицами из казацкой старшины, с четырьмя полковниками и отрядом казаков; но те, которые пошли за ним, стали потом уходить от него, когда узнали, куда он их ведет.
Петр, никак не ожидавший такого события, узнал о нем 27 октября в Погребках на Десне, где наблюдал за движениями неприятеля. Он приказал Меншикову истребить дотла Батурин, столицу гетмана. Русские взяли Батурин, 1 ноября, и перебили в нем все живое с такою жестокостию, какою отличались в Ливонии и в собственной земле во время укрощения булавинского бунта. Вслед за тем Петр приказал съехаться в город Глухов, к 4 ноября, малороссийскому духовенству и старшине. Там избран был новым гетманом стародубский полковник Иван Скоропадский, а потом, угождая царю, малороссийское духовенство совершило обряд предания анафеме Мазепы с его соучастниками. После того между Карлом и Мазепою, с одной стороны, и Петром со Скоропадским – с другой, началась полемика манифестами и универсалами, обращаемыми к малороссийскому народу. Карл и Мазепа старались вооружить народ против Москвы, пугая его тем, что царь хочет уничтожить казацкие вольности, а Петр и Скоропадский уверяли малоруссов, что Мазепа имеет намерение отдать Малороссию в прежнее порабощение Польше и ввести унию. Петр приказал сложить с народа поборы, установленные гетманом Мазепою, и в своем манифесте выразился так: «Ни один народ под солнцем такими свободами и привилегиями и легкостию похвалитися не может, как народ малороссийский, ибо ни единого пенязя в казну нашу во всем малороссийском крае с них брать мы не повелеваем».
Малороссия не пошла за своим старым гетманом: интересы простонародной массы были противоположны интересам старшин и вообще богатых и значных людей казацкого сословия. Последние понимали вольность в таком смысле, чтобы привилегированный класс, вроде польской шляхты, управлял всею страною и пользовался ее экономическими силами за счет остального народа – так называемой черни, а простонародная громада хотела полного равенства, всеобщего казачества. Едва только пошла по Малороссии весть, что чужестранцы приблизились к пределам малороссийского края и гетман со старшиною переходят на их сторону, народ заволновался, стали составляться шайки – нападать на чиновных людей, на помещиков, грабить богатых торговцев, убивать иудеев, и Мазепа, задумавший со старшиною доставить Малороссии независимость и свободу, должен был сознаться, что народ не хочет такой независимости и свободы, а желает иной свободы, к которой стремление начинает грабежом и расправою над знатными и богатыми людьми. Те, которые носили казацкое звание и были отличены по правам личным и имущественным от посполитых людей или черни, быть может, пошли бы за своим предводителем, если бы у Карла были большие силы, а у Петра было их мало. Вышло наоборот: казаки увидали, что Карл пришел с малочисленным войском и трудно было ему дополнять его из далекого своего отечества, а Петр явился с ратью, вдвое превосходившею силы его соперника; войско Петра беспрестанно увеличивалось и готово было безжалостно разорять малороссийский край, если казаки станут заявлять расположение к шведам.
Царь стал в Лебедине. Карл занял Ромны, взял Гадяч, потом потерял Ромны. Наступили такие суровые морозы, каких не помнили в Малороссии деды и прадеды. Птицы замерзали, летая по воздуху. Воины отмораживали себе руки и ноги. Шведы терпели более русских, потому что одеты были легче; это уменьшило силы Карла, а силы Петра увеличивались прибывавшими рекрутами.
В начале января 1709 г. шведы взяли местечко Веприк, и тем ограничились их успехи. Петр услышал, что Карл возбуждает турок идти на Россию и сам намеревается двинуться на Воронеж. Это побудило Петра оставить войско и ехать в Воронеж, чтоб распорядиться там относительно своих кораблей. Он поехал в начале февраля и осматривал в Воронеже и Таврове корабельные работы; вместе с мастеровыми собственноручно сам работал, в то же время занимался внутренними делами и даже поправлял печатаемые в то время ведомости, календари и учебные книги. Со вскрытием рек царь спустил в Таврове на воду новопостроенные корабли и, несмотря на нездоровье, отправился вниз по Дону в Новочеркасск, где приказал казнить Илью Зерщикова, напрасно думавшего избавиться выдачею Булавина, посетил Азов, осмотрел Троицкую крепость, несколько раз плавал по Азовскому морю, производя морские эволюции, а в мае возвратился к войску степью, через Харьков.
Между тем в отсутствие Петра продолжались военные действия со шведами; две стычки под Красным Кутом и Рашевкою, хотя довольно кровопролитные, не имели важных последствий, но очень важным делом была расправа с запорожцами. Кошевой Костя Гордиенко, приставши к Мазепе, увлек все товарищество; запорожцы обесчестили присланных к ним царских стольников, которые привезли милостивую царскую грамоту, денег на войско и в подарок старшинам. Замечательно, что запорожцы, всегда державшиеся интересов черни в борьбе с казацкою старшиною, и на этот раз заявили такое требование, которое было противно как Петру, так и Мазепе: чтобы в Малороссии не было старшины и чтобы весь народ был вольными казаками как в Сечи. Гордиенко отправился затем с запорожцами в Малороссию; к нему начала приставать чернь из Переяславльского полка; Гордиенко провозглашал всеобщую казачину и приказывал народу на обеих сторонах Днепра собираться и бить старшин. Тогда, по приказанию Петра, полковник Яковлев из Киева двинулся на судах вниз по Днепру, разбил полчища, собравшиеся у Переволочны, доплыл до Сечи и после упорного сопротивления взял ее приступом. Большая часть из находившихся в Сече запорожцев пала в битве; до трехсот человек взято в плен и казнено по приказанию государя. Но в Сече оставалась тогда небольшая часть всего запорожского коша; остальные с Гордиенком и со всею старшиною успели пробраться через Малороссию, разбили русский отряд полковника Кампеля и соединились с Карлом.
ПЕТР I В ПОЛТАВСКОЙ БИТВЕ.
Иоганн Готфрид Таннауэр. 1724–1725 гг.
Когда, 31 мая, Петр возвратился к войску, Карл, устроивши свою главную квартиру в Опошне, уже около двух месяцев занимался осадою Полтавы: он надеялся в ней найти большие запасы. Полтавский комендант Келин не только отвергал всякие предложения к сдаче, но делал смелые вылазки и наносил урон неприятелю. Царь, явившись из путешествия в свое войско, расположенное под Полтавой на другой стороне Ворсклы, известил о своем прибытии коменданта письмом, брошенным в пустой бомбе: Петр принял намерение переправить войско на другую сторону и дать генеральную битву, чтобы освободить Полтаву от осады. Переход через реку совершался несколько дней; 20 июня русские были уже на другой стороне реки и расположились лагерем, который стали укреплять шанцами. Шведы попытались в последний раз взять Полтаву приступом, но были отбиты, и Полтава освободилась от осады. Готовясь к битве, Петр откладывал ее со дня на день до прибытия 20 000 калмыков, но Карл, узнавши об этом, приказал двинуть войско в битву, 27 июня, на рассвете. Шведскою армиею предводительствовал Реншильд. Сам Карл XII получил перед тем рану в ногу и, сидя в качалке, велел возить себя по полю битвы. Всею русскою армиею командовал фельдмаршал Шереметев, артиллериею – Брюс, правым крылом – генерал Ренне, а левым – Меншиков. Сам Петр участвовал в битве, не избегая опасности: одна пуля прострелила ему шляпу, другая попала в седло, а третья повредила золотой крест, висевший у него на груди. В это-то время, ободряя своих воинов, он сказал знаменитые слова: «Вы сражаетесь не за Петра, а за государство, Петру врученное… а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия, слава, честь и благосостояние ее!» Через два часа участь битвы была решена. Шведы были разбиты наголову и бежали, оставивши более 9000 на поле битвы. Бежавшим шведским войском командовал Левенгаупт. Сам фельдмаршал Реншильд с тремя генералами и тысячей воинов взяты в плен. Карла едва спасли от плена: его качалка досталась русским. Главный министр шведского короля, граф Пиппер, со всею королевскою канцеляриею явился в Полтаву и сдался русским. На поле битвы в тот же день Петр устроил пир, пригласил к нему шведских военнопленных генералов, возвратил им шпаги, обласкал, хвалил за верность своему государю и, наливши кубок вина, сказал: «Пью за здоровье вас, моих учителей в военном искусстве». – «Хорошо же отблагодарили ученики своих учителей!» – ответил Реншильд.
На другой день после Полтавской битвы Петр послал Меншикова в погоню за бежавшим неприятелем, а сам приказал в присутствии своем похоронить убитых русских и собственноручно засыпал их землею. Меншиков догнал шведское войско на устье Ворсклы у Переволочны. Население все разбежалось; войску не на чем было переправляться через Днепр; запорожцы едва успели переправить на лодках Карла и Мазепу. Левенгаупт и товарищ его Крейц были застигнуты Меншиковым, не сопротивлялись, не имея ни пороху, ни артиллерии, и сдались военнопленными с 16 000 войска. Петр отправил за Днепр два драгунских полка под начальством генерала Волконского за Карлом и Мазепою, давши приказание, «если поймают Карла, то обходиться с ним честно и почтительно, а если поймают Мазепу, то вести его за крепким караулом и смотреть, чтобы он каким-нибудь способом не умертвил себя». Запорожцы успели провезти Карла с несколькими генералами и Мазепу с его приверженцами на татарских телегах через степь до Очакова. Отряд Волконского, догнавши их при переправе через Буг, захватил в плен нескольких шведов и казаков.
Петр приказал разослать пленных шведов по городам, назначив им жалованье по их чинам, но приказавши простых шведов употреблять на казенные работы, наградил русских генералов, участвовавших в битве, орденами, высшими чинами и вотчинами, офицеров – своими золотыми портретами и медалями, солдат – серебряными медалями и деньгами, а сам получил чин генерал-лейтенанта. В Москве на радостях восемь дней сряду звонили без устали и палили из пушек; по улицам кормили и поили народ, угощая вместе с тем и шведских пленников, по вечерам зажигали потешные огни. Сам царь отправился с Меншиковым в Польшу.
Август, услыхавши о несчастии Карла, увидел возможность нарушить Альтранштадтский мир и, собравши 14 000 саксонского войска, двинулся в Польшу, обнародовал манифест, в котором доказывал справедливость разрыва вынужденного мира со шведским королем, взваливал вину своих министров и представлял свои права на польский престол, ссылаясь на то, что папа не утвердил Станислава королем. Петр приехал в Варшаву. Паны, противники Лещинского, величали Петра спасителем своей вольности, тем более что русский отряд, посланный перед тем в Польшу под начальством Гольца, вместе с гетманом Синявским, одержал победу над войсками Станислава. 26 сентября Петр приехал в Торунь и там свиделся с Августом; все прежнее казалось забытым; Петр простил ему изменнический мир со шведами и выдачу Паткуля. Август все сваливал на своих министров. Друзья снова заключили оборонительный договор против Швеции; Август уступал Эстляндию России; царь обещал польскому королю, в вознаграждение издержек, Ливонию, но тут же проговорился, сказавши саксонскому министру Флемингу, что приобретенное Россиею на войне без участия союзников будет принадлежать России. Из Торуня Петр отправился по Висле в Мариенвердер и там виделся с прусским королем; с ним также заключил он договор против Швеции. Царь оттуда прибыл в Курляндию, а Шереметев с 40 000-ным войском, в начале октября, подошел к Риге. Сам Петр прибыл к войску, сделал осмотр окрестностей Риги и 14 ноября собственноручно пустил в Ригу три бомбы; затем он оставил 7000 войска держать в блокаде город до весны, а остальное войско приказал расположить по квартирам в Ливонии и Курляндии. Из-под Риги Петр через Петербург отправился в Москву и в декабре устроил себе и своим генералам торжественное вшествие в Москву через семь триумфальных ворот, украшенных всевозможными символическими знаками. Церемонии, речи, потешные огни и пиры продолжались в течение нескольких дней.
Полтавская битва получила в русской истории такое значение, какого не имела перед тем никакая другая. Шведская сила была надломлена; Швеция, со времен Густава-Адольфа занимавшая первоклассное место в ряду европейских держав, потеряла его навсегда, уступивши России. Унизительный Столбовский мир, лишавший Россию выхода в море, теперь невозвратимо уничтожился. Берега Балтийского моря, завоеванные Петром, невозможно было уже отнять от России. В глазах всей Европы Россия, до сих пор презираемая, показала, что она уже в состоянии, по своим средствам и военному образованию, бороться с европейскими державами и, следовательно, имела право, чтобы другие державы обращались с нею, как с равною. Наконец, с этого времени деятельность Петра, до сих пор поглощаемая войною и сбором средств для войны, гораздо больше обратилась на внутреннее устройство страны.
Еще в конце 1708 года состоялось важное распоряжение о разделении всей России на губернии. Учреждено было восемь губерний: Ингерманландская, Архангельская, Московская, Смоленская, Киевская, Азовская, Казанская и Сибирская.
Всех городов в восьми губерниях было в то время 339, а из них 25 приписанных к корабельным воронежским делам в Азовской губернии.
В 1709 году все внимание Петра было поглощено войною. Внутренние распоряжения клонились исключительно к доставлению средств, которые, однако, при всех усиленных мерах, оказывались недействительными. На деле совершалось не то, что на бумаге. Откупщики, бравшие на откуп казенные доходы, объявляли себя несостоятельными. Пчелиные промыслы, обложенные с 1704 года налогом, не приносили доходов, потому что владетели пасек не представляли о них отписей и не платили в казну ничего: поэтому велено было сделать новый пересмотр пасек и бортных урожаев и обложить их по 1-му рублю 3 алтына и 2 деньги за пуд меду, тогда как прежде в казну брали только по два фунта с улья и по 8 денег. Несмотря на все меры, недоимки по всем статьям оставались за несколько лет невнесенными, не было возможности их собрать, и, наконец, правительство должно было в ноябре 1709 года скинуть все прежние недоимки и взыскивать только за два последние года. Впрочем, последующие указы противоречили предыдущим; после скидки старых недоимок, осенью 1711 года, велено было взыскивать недоплаченные деньги с 1705 года.
После победы над шведами, Петр, считая свой любимый Петербург уже крепким за Россией, принялся за устройство его более энергическим образом, а это послужило поводом к такому отягощению народа, с каким едва могли сравниться все другие меры. В 1708 году выслано было в Петербург сорок тысяч рабочих. В декабре 1709 года со всех посадов и уездов, с дворцовых, церковных, монастырских и частных имений велено было собрать, кроме каменщиков и кирпичников, такое же число – 40 000 человек и пригнать на работу в Петербург. На хлеб и на жалованье рабочим, по полтине в месяц, назначено собрать с тех дворов, с которых не было взято рабочих, что составило сумму 100 000 рублей. В 1710 году из Московской губернии велено было взять в Петербург 3000 рабочих, распределив их по десяткам, так что в каждом десятке был плотник с инструментами, и жалованье назначено ему по рублю в месяц; в том же году велено выслать к следующему 1711 году на две перемены по 6075 человек, приставивши к ним приказчиков из тех селений, из которых будут выбраны работники. Независимо от этого отправляли таким же образом рабочих в Азов 13-го июня 1710 года; на сто верст кругом Москвы велено было набрать молодых людей от пятнадцати до двадцати лет и отправить в матросы в Петербург. В 1711 году опять потребовали в Петербург новых 40 000 рабочих и приказали собрать на них 100 000 рублей. Но полное число требуемых работников не высылалось, потому что много дворов, значившихся по книгам, оставались на деле пустыми. Хлебный провиант, для продовольствия этих рабочих людей, собирался со всего государства по числу дворов, и каждый год оставались недоимки, которых сумма все более и более возрастала против прежних лет. Так, например, из 60 589 четвертей, следуемых к сбору в казну на провиант из дворцовых и помещичьих имений, в 1708 году не доплачено 22 729; в 1709 – 32 692; в 1710 – 36 331; то же с имений церковного ведомства: из 34 127 четвертей в недоимке было: в 1707 году – 7000 четвертей; в 1708–8586; в 1709 – 14 251; в 1710 – 19 308 четвертей.
Судостроительные работы не ограничивались одним Петербургом: строились шнявы в Олонце, где начальствовал над работами голландец Дефогельдедам. В Архангельске строились суда под наблюдением голландца Вреверса, построившего там большой фрегат. В Московской губернии, на Дубенской и Нерльской пристанях, строились суда, называемые «тялками», для спуска с казенными запасами. В Казани устроена была верфь и строились суда, называемые «семяками» и «тялками»; там на верфи работала толпа голландцев и русских рабочих, под наблюдением мастера Тромпа; государь послал к нему учиться молодых дворянских детей. Близ Воронежа продолжалось кораблестроительное дело в Таврове и Усерде, и для того в сентябре 1711 года велено выслать туда 1400 плотников.
Рекрутские наборы шли своим чередом; возникшая тогда война с Турцией потребовала усиления рекрутчины. В 1711 году собрано со всех губерний, кроме Петербургской, 20 000 рекрут и, кроме того, деньги на обмундирование их и на провиант для продовольствия, а также 7000 лошадей с фуражом или деньгами за овес и сено в течение восьми месяцев: приходилось с 26 дворов по одному рекруту, а с 74 дворов по одной лошади. С имений церковного ведомства собирался провиант на войско в размере хлеба по 5 четвериков со двора и по четверику круп с 5 дворов. По отношению к дворовому числу, все восемь губерний разделены были на доли, всех долей было 146, одних дворов было 798 256. Сбор провианта сопровождался жалобами жителей, что люди, присылаемые войсковыми командирами, причиняют крестьянам убытки и разорения; но на такие жалобы мало обращалось внимания. Настоятельные потребности содержать войско вынуждали правительство, в ответ на жалобы, строго предписывать поскорее собирать провиант и доставлять его по назначению. Губернаторам угрожали наказанием, как изменникам, за несвоевременное исполнение указов, а рекруты беспрестанно бегали со службы; чтоб предупредить побеги, их обязывали круговою порукою, грозили ссылкою за побег рекрута его родителям, налагали штраф по пятнадцати рублей за передержку беглого. Но побеги от этого не прекращались, а иные помещики умышленно укрывали количество своих крестьян и уклонялись от рекрутской повинности. Села пустели от многих поборов; беглецы собирались в разбойничьи шайки, состоявшие большею частью из беглых солдат. Они нападали на владельческие усадьбы и на деревни, грабили и сжигали их, истребляли лошадей, скот, рассыпали хлеб из житниц, увозили с собою женщин и девиц для поругания. По просьбе помещиков, живших в уездах около Москвы, отправляемы были нарочные сыщики, которые собирали отставных дворян, разных служилых людей и крестьян на ловлю разбойников. Около Твери и Ярославля разбойничьи шайки разгуливали совершенно безнаказанно, потому что, за отправкою дворян молодых и здоровых на службу и за взятием множества людей в Петербург на работу, некому было ловить их. Разбойники бушевали в Клинском, Волоцком, Можайском, Белозерском, Пошехонском и Старорусском уездах, останавливали партии рекрут, забирали их в свои шайки и производили пожары. Государь в октябре 1711 года отправил для розыска разбойников полковника Козина с отрядом; отставные дворяне и дети боярские обязаны были, по требованию последнего, приставать к нему и вместе с ним ловить разбойников, которых немедленно следовало судить и казнить смертию. В 1714 году повелено казнить смертию только за разбой с убийством, а за разбои, совершенные без убийства, ссылать в каторгу, с вырезкою ноздрей.
Рядом с разбойниками проявлялись фальшивые монетчики – воровские денежные мастера. Строгие меры против них были тягостны не только для самых преступников, но и для неосторожных покупателей, потому что всякого, у кого случайно находили воровские деньги, тащили на расправу. Кроме фальшивой монеты домашнего изобретения, в Архангельск привозили такую же иностранцы. Чтобы прекратить в народе обращение ее, в мае 1711 года были уничтожены старинные мелкие деньги; а вместо них начали чеканить рубли, полтинники, полуполтинники, гривенники, пятикопеечники и алтынники. Северная половина России страдала от поджогов и от случайных пожаров, которые вынуждали предупредительные меры: в мае 1711 года, по сенатскому указу, велено в городах заводить инструменты для погашения огня – крючья, щиты, трубы, ломы и т. п. и раздать по гарнизонным полкам, которые обязаны были охранять города от огня. Но эти спасительные меры были более на бумаге, чем на деле, потому что долго потом не приобретались инструменты, да и самая сумма на эти предметы, простиравшаяся до 110 000 рублей, не слишком была достаточна. Города Псков, Торжок, Кашин, Ярославль и другие дошли до такого разорения, что современники находили едва возможным поправиться им в течение пятидесяти лет. Много народа вымирало, много разбегалось. В 1711 году насчитывалось в этом крае 89 086 пустых дворов. К увеличению народных бед, в 1710 году появились заразительные болезни, перешедшие из Лифляндии и Польши, где они особенно свирепствовали, и для этого велено было устроить заставы, распечатывать все письма и окуривать можжевельником.
Недостаток средств, при всех усиленных мерах, высказался уже в январе 1710 г., когда государь приказал своей ближней канцелярии счесть доходы с расходами, и оказалось, что приходу 3 015 796 р., а расходу 3 834 418 рублей. Надобно было усиливать строгость сбора доходов. В Москве у всех ворот и проездов больших дорог делали шлагбаумы, где стояли солдаты и брали с каждого воза, ехавшего с какою бы то ни было кладью, мелкую пошлину. Во всем государстве запрещено было, не взирая ни на какое звание, приготовлять вино, а непременно брать из царских кабаков. То была новая тягость для народа; только малороссияне были избавлены от нее; не только в самой гетманщине, но и в великорусских краях, где они поселились, дозволялось им свободное винокурение. Петр ласкал малороссийский народ и освобождал его от поборов, таким гнетом падавших на великороссиян. Марта 11-го 1710 года манифестом царь строго запретил великорусским людям делать оскорбления малоруссам, попрекать их изменою Мазепы, угрожая, в противном случае, жестоким наказанием и даже смертною казнью за важные обиды; но это были только ласки до времени: и за Малороссию Петр готовился приняться.
Самою важною мерою, с целью привести в порядок государственное управление и получать правильно доходы, было учреждение высшего центрального места, под именем сената. Указ об учреждении его последовал в первый раз 22 февраля 1711 года. Сенат был род думы, состоявшей из лиц, назначенных царем, вначале в числе восьми. Сенат, по словам указа, учреждался по причине беспрестанных отлучек самого царя. Он имел право издавать указы, которых все обязаны были слушаться под страхом наказания и даже смертной казни. Сенат ведал суды, наказывал неправильных судей, должен был заботиться о торговле, смотреть за всеми расходами, но главная цель его была собирать деньги, «понеже деньги суть артерия войны», говорит указ. Все сенаторы имели равные голоса. Сенату подведомы были губернаторы, и для каждой губернии в самом сенате учреждались так называемые повытья с подьячими. Канцелярия сената, кроме повытей, имела три стола: секретный, приказный и разрядный; последний заменял упраздненный древний разряд. В канцелярии правительствующего сената должны были находиться неотлучно комиссары из губерний для принимания царских указов, следуемых в губернии и для сообщения сенату сведений по вопросу о нуждах губернии; они вели сношения со своими губерниями через нарочных или через почту.
Вместе с учреждением сената последовало учреждение фискалов. Главный фискал на все государство назывался обер-фискалом. Он должен был надсматривать тайно и проведывать: нет ли упущений и злоупотреблений в сборе казны, не делается ли где неправый суд, и за кем заметит неправду, хотя бы и за знатным лицом, должен объявить перед сенатом; если донос окажется справедливым, то одна половина штрафа, взыскиваемого с виновного, шла в казну, а другая поступала в пользу обер-фискала за открытие злоупотребления. Если даже обер-фискал не докажет справедливость своего доноса, то он за то не отвечал, и никто, под страхом жестокого наказания, не смел выказывать против него досаду. Под ведомством обер-фискала были провинциал-фискалы, с такими же обязанностями и правами в провинциях как и обер-фискал в целом государстве, с тою разницею, что без обер-фискала они не могли призывать в суд важных лиц. Под властью последних состояли городовые фискалы. Собственно по духу своему это не было нововведение, потому что доносничество и прежде служило одним из главных средств поддержания государственной власти, но в первый раз оно получило здесь правильную организацию и самое широкое применение. Фискалы должны были над всеми надсматривать; все должны были всячески им содействовать – все, ради собственной пользы, приглашались к доносничеству. Объявлено было в народе, что если кто, например, донесет на укрывавшегося от службы служилого человека, тот получит в полную собственность деревни того, кто укрывался; или кто донесет на корчемников, торговавших в ущерб казне вином или табаком, тот получит четвертую долю из пожитков виновного. Доносчики освобождались от наказания, хотя бы и не доказали справедливости своего доноса. Опыт скоро показал, что такая мера не прекращала злоупотреблений; напротив, фискалы, пользуясь своим положением, сами дозволяли себе злоупотребления и попадались. Система доносов только способствовала дальнейшей деморализации народа; подобными мерами можно скрепить взаимную государственную связь, но всегда в ущерб связи общественной.
С учреждением сената ратуша хотя не была уничтожена, но потеряла свое прежнее значение, и власть губернаторов стала простираться на торговое сословие. Губернаторам было отдано ямское дело, а ямской приказ был упразднен. На них же возложено было отыскание металлических руд, и особый существовавший до сих пор приказ рудных дел был уничтожен. С целью преобразования монетной системы учреждено особое место, так называемая купецкая палата. Все, у кого были старые деньги, должны были сносить их в купецкую палату и обменивать их на новые.
В купецкой палате сидело двое поставленных на монетном дворе, а к ним присоединялись выборные из гостиной сотни по одному человеку, обязанные клеймить все серебряные и золотые изделия и преследовать тех, которые станут продавать эти изделия без пробы. За первый раз была назначена легкая пеня в 5 рублей, за второй – пеня в 25 рублей и телесное наказание, а за третий – кнут, ссылка и отобрание всего имущества в казну, «чтобы всеконечно истребить воровской вымысел в серебряных и золотых делех». Новая серебряная проба разделялась на 3 разряда: первое – чистое серебро, без всякой лигатуры, второе – 82 пробы и третье – 64. Купецкая палата имела поручение продавать желающим серебро и золото и для приобретения того и другого получала от казны готовые суммы; так, в мае 1711 года с этой целью отпущено было туда 50 000 рублей. Купецкая палата для покупки серебра и золота посылала по ярмаркам доверенных купцов, и тогда кроме таких доверенных лиц никто не смел покупать. Покупка и продажа золота и серебра также очень скоро послужила поводом к злоупотреблениям и наказаниям за эти злоупотребления со стороны правительства: в 1711 году нескольких купцов велено бить батогами за незаконную торговлю золотом и серебром.
Купецкие люди имели право надзора над разными фабриками и заводами, учреждаемыми правительством; таким образом, заведены были в Москве полотняные, скатертные и салфетные фабрики: их отдали купецким людям с тем, чтобы они умножили этот промысел, но с угрозою, что если они не умножат его, то с них возьмется штраф по тысяче рублей с человека. Петр даровал всем без исключения дозволение торговать, под своим, а не под чужим именем, с платежом обыкновенных пошлин, но не переставал ставить промыслы и торговлю в такое положение, чтоб они обогащали казну. Пошлины не уменьшались, напротив – увеличивались, и многие статьи отдавались на откупе с наддачею, т. е. тем, которые преимущественно перед прежними откупщиками давали казне большую откупную сумму; так, хомутная пошлина, взимаемая с извозчиков, а также пошлина с судов – переходили из рук в руки с наддачею. В Архангельске многие статьи вывоза продолжали быть исключительным достоянием казны, таковы были: икра, клей, сало, нефть, смола, лен, поташ, моржовая кость, ворвань, рыба, особенно треска и палтусина, корабельный и пильной лес, доски и юфть. Никто не смел в ущерб казне отпускать за границу этих товаров, а продавать их по мелочи производители могли только доверенным от царя купчинам. Из привозных вещей алмаз, жемчуг и разные драгоценные камни, по указу 1711 г., освобождались от пошлин для того, чтоб заохотить иноземцев привозить их в Россию.
Военные дела, после поражения шведов под Полтавою, несколько времени представляли ряд блестящих успехов, имевших последствием расширение пределов государства. Адмирал Апраксин осадил Выборг; сам царь, в звании контр-адмирала, участвовал в этой осаде, доставляя на кораблях запасы осаждающим. Шведский комендант, приведенный в стесненное положение непрестанным бомбардированием, 12 июля 1710 г. сдался на капитуляцию, выговорив себе свободный проезд в Швецию. Но Петр, давши слово, нарушил его под тем предлогом, что шведы задерживают в Стокгольме русского резидента Хилкова, и приказал увести в Россию военнопленным гарнизон, а многих жителей перевести в Петербург. Рига, осажденная еще осенью 1709 г. Шереметевым, держалась упорно более полугода. Рижский генерал-губернатор Штренберг был человек храбрый и искусный; с чрезвычайным спокойствием он заставлял осажденных выдерживать сильнейшую бомбардировку и недостаток жизненных средств. Но в Риге распространилась заразительная болезнь, и люди умирали в громадном количестве, так что оставалась в живых едва третья часть всех жителей, а всего гарнизону с небольшим тысяча человек. Штренберг сдался на капитуляцию. Шереметев не дозволил уйти природным немцам, принуждая их присягнуть царю на подданство; шведам дали слово отпустить их на родину, но нарушили слово, так же как и под Выборгом, и Штренберг был удержан военнопленным. За Ригою сдался Динамюнде, где также зараза страшно истребила население. 14 августа генерал Боур взял Пернов, таким же образом, как Шереметев Ригу, потом переправился на остров Эзель и овладел Аренсбургом, а 29 сентября сдался Меншикову на капитуляцию Ревель; шведский гарнизон был выпущен. За Ревелем покорилась вся Эстония; таким образом балтийское побережье, которого Петр так добивался, досталось России, и с этих пор навсегда. По выражению одного современника, зараза более самого оружия способствовала Петру овладеть ливонским краем. Около того же времени покорен был генералом Брюсом Кексгольм, древняя Корела. Петр, в память этих приобретений, основал близ Петербурга монастырь Александра Невского, чтобы в глазах народа освящать свои завоевания благословением причисленного к лику святых князя, одержавшего победы над теми же немцами и шведами, которых теперь поражал Петр. Царь понял, что с подчинением прибалтийского края не нужны более суровые приемы, что надлежит, напротив, приласкать новых подданных, уцелевших в разоренном и сильно обезлюдевшем краю. Не только дал он этой стране временные льготы, в которых она нуждалась, но и утвердил навсегда старые права дворянства и гражданства прибалтийского края, обещал неприкосновенность лютеранского исповедания, судов и немецкого языка. Одни туземцы могли быть выбираемы в должности и владеть в крае имениями, которые не могли облагаться личными налогами, кроме постановленных местным земским сеймом. Университету в Пернове царь обещал свое покровительство и объявил, что будет посылать туда русских для обучения. Петр уничтожил все редукции, выдуманные шведским правительством, и утвердил за дворянами те земли, какими они в данное время владели, что сильно успокоило дворянство. Курляндия не была еще покорена и оставалась польским леном, но на деле в то же время подпала иным способом под русскую власть. Петр выдал племянницу свою Анну Ивановну за молодого герцога курляндского, но этот герцог вскоре после брака (10 января 1711 г.) умер, а вдовствующая супруга осталась правительницею Курляндии и жила в Митаве. Петр распоряжался в этой стране по своему произволу, не допустивши до престолонаследия брата покойного герцога Фердинанда. В самой Польше дела складывались так, что русский царь мог распоряжаться этой страной и пролагать России дорогу к ее подчинению. Под видом защиты короля Августа, своего союзника, Петр продолжал держать свои войска в Польше к большой досаде жителей края. На содержание чужеземного войска, по известию современника Отвиновского, приходилось тогда по 38 талеров в месяц с дома. Постой назначен был только в земских или шляхетских имениях: все коронные имения были освобождены от постоя, а из земских имений гетманы и благоприятели гетманов постарались освободить свои собственные имения, расставивши русских солдат по чужим имениям и подвергая последние большей тягости, чем какую несли их собственные. Военные люди, по обычаю того времени, дозволяли себе насилия и бесчинства над жителями. Польские паны жаловались русскому послу князю Григорию Долгорукову, а посол водил их обещаниями; между тем, по царскому приказанию, русские вербовали людей в Польше, иных даже насильно хватали и препровождали в Россию; царь хотел этими навербованными заселить кое-где опустевшие русские местности. Русские отняли у шведов польский город Эльбинг, но Петр не выпускал его из рук и не отдавал Польше. По всему видно, Петр, по отношению к Польше, вступил уже в такую роль союзника, какую обыкновенно в истории разыгрывали сильные и ловкие над слабыми и простоватыми, мало-помалу превращаясь из союзников и друзей в господ и владык. Отношения к западным державам если не представляли для Петра блестящих надежд, то все-таки становились для него благоприятнее, после того как военные успехи заставили Запад уважать Россию. Дания снова вошла с Россией в союз против Швеции, хотя собственно своими военными действиями не приносила России никакой пользы; так, попытка датчан сделать нападение на южные области Швеции окончилась жестоким поражением датского войска. Австрийский дом готовился вступить в свойство с русским домом: Петр сговаривался женить сына на сестре императора Карла, тогда получавшего престол. Голландские Соединенные Штаты и германские владетели провозгласили нейтралитет германских земель для всех вообще участников Северной войны, и если этот нейтралитет ограничивал действия Петра, то еще более был направлен против Карла, который с такою нестесняемостью распоряжался в Саксонии. С Англией у России произошло было неудовольствие: русский посол Матвеев был задержан за долги английскими купцами и подвергся оскорблениям, но вслед за тем прибывший в Россию посол английской королевы Анны извинился пред царем и даже, к удовольствию царя, английская королева, в своих сношениях с Петром, дала ему императорский титул; видимое согласие восстановилось, и в Лондон отправился русский посол князь Куракин. Хотя Англия не слишком дружелюбно смотрела на стремление Петра создать из своего государства морскую державу, но, по крайней мере, не предпринимала ничего враждебного. Со стороны Турции, вначале казалось, нечего было опасаться. Русский посланник в Константинополе Петр Толстой после полтавской победы заключил с Турцией договор, по которому Турция обещала удалить Карла XII из турецких владений, а русский отряд должен был проводить его через Польшу. Но вслед за тем Карл XII, через своего сторонника киевского воеводу Понятовского, сильно старался об уничтожении этого договора и возбуждал турок к войне с Россией. Двое турецких главных визирей, один за другим, были низвержены, и место главного визиря получил паша Балтаджи-Мугамед. Быть может, и при этом визире дело обошлось бы, но Петр сам сделал неосторожность: надеясь на свои силы, он стал угрожать Турции войною, если, согласно заключенному договору, турецкое правительство не спровадит из своих владений шведского короля. Царя раздражало еще и то, что, по смерти Мазепы, бежавшего в Турцию, его сторонники, с позволения султана, избрали себе новым гетманом бывшего при Мазепе генеральным писарем Орлика. Угрозы Петра так раздражили султана и диван его, что 20 ноября 1710 года объявлена была война России, и, по обычаю турецкому, посол русский Толстой заключен был в Едикул (Семибашенный замок). Получивши объявление войны, Петр отправил войска свои к турецким границам и 6 марта 1711 г. выехал сам к войску из Москвы вместе с Екатериною Алексеевною, которая с этого времени стала в близком к царю кругу называться царскою женою и царицею.
Эта Екатерина Алексеевна была та самая бедная мариенбургская пленница Марта Скавронская, которую взял Шереметев вместе с пастором Глюком. Бывшая возлюбленная Петра Анна Монс, для которой он заключил свою жену, Евдокию, изменила ему. Еще в 1702 году, при взятии Шлиссельбурга, нечаянно утонул провожавший Петра в походе саксонский посланник Кенигсек. Из кармана утопленника вынуты были любовные письма к нему царской возлюбленной. Анна за это содержалась в заключении три года; потом, уже выпущенная на свободу, сошлась с прусским посланником Кайзерлингом. Петр жил со Скавронской, и она время от времени все более и более овладевала его чувством. Путь Петра лежал через Польшу, куда, к неудовольствию многих поляков, стянулось русское войско. В Ярославле (галицком) Петр свиделся с Августом; они (30 мая) заключили новый договор на таком условии: Петр будет воевать с турками, Август с польскими войсками и вспомогательным отрядом русских от 8000 до 10 000 в Померании со шведами. Поляки, соображая, что русский царь теперь в них нуждается, домогались: отдачи им Ливонии, права заселять Украину правого берега Днепра, остававшуюся впусте; домогались свободы католического вероисповедания в России, требовали вывода русских войск из Польши и вознаграждения за взятые насильно контрибуции. Петр на все давал двусмысленные обещания, отлагая их исполнение до окончания войны. Тут явились у Петра еще союзники: христиане, находившиеся в порабощении турок. Еще до разрыва с Турциею, единоверные и единоплеменные России сербы присылали к царю предлагать свои услуги в случае войны с басурманом, и это, без сомнения, в числе других причин, побуждало Петра не бояться раздражить турок угрозами и вызвать их на объявление войны. Зимой серб полковник Милорадович начал от царского имени возбуждать к восстанию черногорцев. По приезде царя в Польшу заявили к нему свое расположение и готовность помогать в борьбе с турками господари валахский и молдавский. Во время бегства Карла XII в турецкие владения молдавским господарем был Михаил Раковица, расположенный к России и обещавший Петру свое содействие. Но прежде чем он мог показать на деле свое расположение к России, Турция свергла его с господарства, назначив вместо него Маврокордато, а потом, по настоянию крымского хана, лишила господарства и Маврокордато, назначив на место его Димитрия Кантемира. Ему покровительствовал крымский хан, а Турция, оказывая Кантемиру доверие, обещала ему еще и валахское господарство, если он поймает и доставит в турецкие руки бывшего тогда господарем Валахии Бранкована, своего давнего врага. Бранкован первый обратился к Петру через своего посланца Давыда и обещал русскому войску свое содействие, когда оно вступит в турецкие владения. Вслед за тем обратился к Петру и новопоступивший на молдавское господарство Кантемир, недовольный турецкими поборами и вымогательствами. Надеясь на силу России и желая доставить своему роду наследственную власть, он через грека Паликолу заключил с царем (13 апреля 1711 г. в Луцке) договор: отдать Молдавию России с тем, что он и его потомки будут там вассальными владетелями; затем, если предприятие не удастся, он выговаривал себе два дома в Москве и поместья в России. Государь, узнавши, что между Кантемиром и Бранкованом существует вражда и соперничество, старался помирить их. По настоянию Петра, и тот и другой обослались между собою посольствами, но искренности между ними не было. И тот и другой имели в виду свои частные выгоды. Кантемир, входя в союз с русским царем, в то же время притворялся пред турецким правительством и уверял, что сносится дружелюбно с неприятелем с целью удобнее выведать об его намерениях и силах.
Царь прежде всего выслал с половиною войска Шереметева, приказывая ему идти за Дунай, а сам следовал за ним к Днепру. Петр воображал, что как только русское войско явится в турецких пределах, – все христиане: и валахи, и сербы и болгары, поднимутся против мусульман. Но Шереметев, перешедши Днепр, нашел, что идти прямо на Дунай опасно: у него недоставало провианта, а путь до Дуная требовал многих дней, и страна была опустошена; он соображал, что если он и пройдет до Дуная, то союзника русских Кантемира может подвергнуть опасности, турки тем временем ударят на Молдавию; сверх того, он рассчитывал, что в Молдавии войско не будет нуждаться в пропитании. Шереметев направился в Молдавию и прибыл в Яссы; за ним следовал Петр по тем же соображениям о средствах содержания войска. Кантемир до сих пор вел сношения с Россиею тайно от совета своих бояр; но тогда, когда Шереметев с русским войском вступил в Молдавию, надобно было открыть тайну. Кантемир созвал всех бояр и объявил, что пристает к Петру. Некоторые с радостью объявили, что разделяют его чувствования; но не все так показали себя, потому что не все надеялись на успех. 5 июня Кантемир сам прибыл к Шереметеву в обоз его. После того прибыл к своему войску Петр и 24 июня посетил Яссы, вместе с Екатериною. На другой день русскому государю Кантемир устроил в своем дворце торжественный обед с приличною попойкою, а жена Кантемира особо угощала Екатерину. Царь несколько дней осматривал Яссы и 27 числа праздновал день Полтавской битвы. Молдавский народ с любопытством бегал за ним и радовался, увидя в первый раз в стенах своей столицы сильного государя православной веры. Петр поражал всех своею простотою и подвижностью. Он оказывал Кантемиру публично знаки любви, обнимал и целовал его. Кантемир воспользовался этим, чтобы очернить перед государем своего давнего соперника Бранкована, к нему в этом присоединился двоюродный брат Бранкована Кантакузин, замышлявший свергнуть своего господаря, чтобы самому сесть на его место. От этого случилось следующее: Бранкован присылал предложение примириться с Турциею; сам султан, узнавши о вступлении русских сил, поручил ему сношение с Петром; но Петр, настроенный против Бранкована, отверг предложение. Тогда валахский господарь рассчитал, что на русскую помощь надежды мало: враги успеют вооружить против него Петра; гораздо безопаснее оставаться на турецкой стороне. Русским пока мало было пользы от вступления в Молдавию. Кантемир издал манифест о вооружении молдавского народа, и народ по религиозному побуждению откликался сочувственно на такое воззвание, но невоинственные и плохо вооруженные поселяне не великие силы могли внести в общее дело. Русское войско в Молдавии не нашло обильного продовольствия, какое думало было там найти, потому что край был опустошен саранчою, и царь послал отряд под начальством Ренне к Браилову добыть сложенные там, как ему доносили, турецкие запасы. В это время вдруг пришло неожиданное известие, что сильное турецкое войско идет на русских, а с ним и хан крымский со своею ордою. У русских было всего 38 276 человек, у визиря 119 665, а у хана до 70 000, – силы чересчур неравные. Петр поспешно двинулся назад, но неприятели догнали русских и осадили. Петр помышлял уйти из стана вместе с Екатериною и пробраться в отечество через Венгрию; предложено было предводителю молдавского войска Никульче взять на себя обязанность проводника царских особ. Никульче не взялся за это, находя невозможным избегнуть турецких сил, окружавших стан.
Турки сделали нападение; русские отразили его. Но это не могло подавать больших надежд Петру. У него не было провианта; турки могли переморить русских осадой.
В таком отчаянном положении министры Петра увидали единственное средство попытаться склонить визиря к миру подарками, так как турки были на них чрезвычайно падки. Шереметев написал визирю письмо и предлагал устроить взаимными силами примирение между воюющими государствами: Россиею и Турциею. Визирь несколько времени не отвечал. Он видел слишком много надежд на выигрыш; и другие турецкие военачальники разделяли его взгляды. Но когда визирь двинул свои силы в бой, янычары заволновались. «У нас, – кричали они, – и так перебито много товарищей, и многие из оставшихся в живых покрыты ранами. Султан хочет мира, а визирь против его воли шлет нас на убой». Такой ропот подчиненных сделал визиря уступчивее. Он отправил в русский стан с ответом Шереметеву Черкес-Мехемед-пашу. Визирь писал, что он не прочь от мира, честного и выгодного для Турции. Когда, после получения такого ответа, Петр собрал на совет приближенных, Екатерина оказала тогда не бесполезное участие. Об этом свидетельствовал сам Петр, когда, короновавши ее императрицей спустя уже двенадцать лет, вспоминал о важных услугах, оказанных ею при Пруте. Иностранные историки объясняли эти услуги, говоря, что Екатерина предложила отдать визирю все свои вещи и деньги.
Как бы то ни было, послан был к визирю подканцлер Шафиров с обещаниями визирю 150 т. рублей, а другим турецким чинам обещаны меньшие суммы. Шафирову дано было полномочие заключить условия мира. Визирь и турецкие чиновники сообразили, что хотя бы они могли уничтожить русское войско, но все-таки не иначе как с большою потерею собственных воинов. Мир постановлен был при Пруте на таких условиях: Петр уступал Азов со всем побережьем, обязываясь срыть основанные там русские городки, и обещал не мешаться в польские дела, а шведскому королю предоставлял свободный проход в его отечество.
Карлу XII не по сердцу был этот мир, и он, оставаясь в турецких владениях, успел вооружить султана против визиря: последнего отрешили и сослали, а потом, как говорят, удавили. В пользу шведского короля действовал при цареградском дворе французский посол.