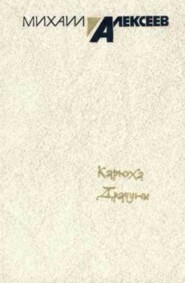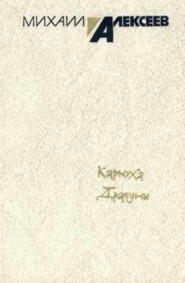По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вишневый омут
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После трехдневной спячки Илья Спиридонович смягчался. Наевшись блинов и наикавшись вволю, он сам выспрашивал у Авдотьи, что бы такое прикупить для дочери, и, добросовестно, как ученик, повторив все вслед за нею – «для памяти», шел во двор запрягать лошадь. Вечером шумно подъезжал к дому и, хмельной, веселый, кричал:
– Авдотья, туды тебя растуды! Почему не встречаешь? Прямо к Ужиному мосту должна была притить, а ты сидишь! Наряжай Вишенку, как царевну! – и заключал пословицей, им же самим и придуманной: – Бедно живем – на весь свет орем!
Авдотья Тихоновна молча забирала в телеге покупки и уносила в избу, не проявив особой радости: в мужниной пословице ей уж чудились нотки осуждения столь безумной расточительности. А пройдет день-другой, доброта и вовсе иссякнет в не очень-то просторном сердце Ильи Спиридоновича, и он будет пилить ее часами, точить, как ржа железо, за то, что совратила на неслыханные расходы.
Дочь между тем наряжалась. Особенно шел Фросе красный сарафан, купленный отцом в Саратове во время последнего, зимнего хождения с извозом. В нем она была такой, что у встречного сами собой вспархивали с расцветших в доброй улыбке губ по-хорошему завидчивые слова:
– До чего румяна, статна и пригожа!
Фрося вспыхивала вся от этих слов, будто внутри ее вдруг зажигался красный фонарик, и бежала поскорее от сказавшего их, хотя готова была слушать сладкие эти речи и в десятый, и в сотый, и в тысячный раз. Она и так слышала их довольно часто и всегда, волнуясь, охваченная пламенем, думала про себя: «Боже милостивый, как же хорошо родиться на свет красивой!»
18
Воскресными днями Михаил Аверьянович уходил из сада – с утра был в церкви, потом занимался дома по хозяйству: чинил ворота, поправлял плетни, мастерил грабли, трехзубые деревянные вилы, налаживал рыдванку, крюки; пообедав, ехал на гумно, расчищал там от травы ток, покрывал прохудившийся конек риги – готовил все к молотьбе. И только с темнотой, когда встретит корову, овец, съездит в лес и накосит для лошадей свежего пырея на ночь, возвращался к себе в сад.
Раньше все это время сад оставался без присмотра, и смекалистые, предприимчивые затонские ребятишки быстро оценили для себя выгодную сторону такого обстоятельства: предводительствуемые отважными вождями, всюду расставив караулы, они целыми полчищами вторгались в знаменитый харламовский сад. Больше всех от их разбойных набегов страдали нежная медовка и кубышка с их ослепительно-сочными и ароматными плодами. Михаилу Аверьяновичу очень скоро пришлось изменить свой порядок – теперь, уходя, он на весь день оставлял за себя сына Николая, наиболее надежного для такого поручения. Павла посылать не решался, потому как тот сам с отрядом своих приятелей мог набедокурить больше, чем кто бы то ни было. Петра не пошлешь – опять пристрастился к зелью и ждет воскресенья, как манны небесной; где-нибудь да затеется гулянье, и как же там без Петра? Кто быстрее и искуснее его может пополнить истощившиеся водочные запасы?
– Послухай, Петро, – часто говорил сыну Михаил Аверьянович, говорил тихо, лишь чуть темнея лицом. – Бросил бы ты все это. Пропадешь. Отец тебе говорит.
– Что отец? Я сам отец! – горячился Петр и начинал смешно стричь двумя своими пальцами воздух. – Что мне еще остается делать вот с этою-то клешней? Что? Жену поколотить и то не могу.
– Колотить не ее, а тебя надо.
– Поколотили, хватит с меня.
– Злой, ты, Петро. Нехорошо.
За Петра вступалась Пиада, еще чаще – бабушка Настастья Хохлушка.
– Оставь его в покое, Михайла, – говорила она сыну. – Покалечили мужика, у него и горить все у нутрях. Поди, поди, голубок, погуляй с добрыми людьми, оно и полегчает. Ты, Дарьюшка, не гневайся на него. Отойдет, обмякнет малость сердцем-то, сам возьмет все в разум. А зараз не мешайте ему. Хай трохи остынет, охолонет…
На этом разговор с Петром и о нем кончался. В сад шел средний сын, Николай, довольный таким поручением до крайности. По пути он успевал навестить товарищей и предупредить, что будет ждать их.
Сразу же после обедни в харламовском саду собиралась молодежь. Приходили Ванька Полетаев, Максим Звонов, первый гармонист на селе, с молодой своей женой Оринкой, сестрой Фроси, песенник и весельчак Мишка Песков, голубоглазый богатырь Федотка Ефремов, шестнадцатилетний крепыш и задира, любитель кулачных боев Васька Маслов. Немного погодя появлялась стайка девчат: нарядная Фрося, лучшая ее подружка – насмешница Аннушка, сестра Ивана Полетаева, страсть как влюбленная в Мишку Пескова; грустная красавица Наташа Пытина из Панциревки, тайно и, кажется, безответно влюбленная в Николая Харламова. Чем мог приглянуться ей этот рыженький, злой, невзрачный хлопчик, неизвестно.
С приходом девчат в саду тотчас же становилось светлее и праздничнее, будто небо приклонялось ниже с ясным солнышком. Николай, взяв длинную рогульку – отец его никогда не тряс яблони, а осторожно снимал плоды специально приспособленной жердиной, – начал срывать для девчат самые спелые и вкусные яблоки, с каждого дерева по нескольку штук. Яблоко падало на землю, девчата вспархивали, как пестрые куры, с криком налетали на него, щипля и отталкивая друг дружку. Счастливица, овладевшая яблоком, немедленно отправляла его в свой алый, влажный и алчуще раскрытый рот, надкусывала торопливо – изо рта ее, с кипенно белых зубов летели брызги, белый сок, как пена, пузырился на щеках и даже на кончике носа; подруги набрасывались на нее, валили наземь и, щекоча под мышками, ловко вырывали искромсанное яблоко. Теперь уже другая тащила его в свой белозубый рот, раскрыв, как цветок на зорьке, розовые, нежные губы, но и ей мешали, и опять визг, счастливые слезы на горящих глазах. Подымались парни, устраивали над упавшим яблоком кучу малу. Захвативший яблоко спешил передать его своей возлюбленной, а та, светясь вся, сияя от счастья, смачно хрустела, окропляя терзающих ее озорных подружек пахучими брызгами яблочного сока. Затем начинали играть. Сначала в карты, в «козла». Потом в «третий лишний», в горелки. А чуть смеркнется, когда в саду сгустятся тени и удод сердито возвестит свое «худо тут», Фрося, ждущая этого часа с испуганно-радостным трепетом в груди, громко захлопает в ладоши, подпрыгнет раза три кряду, закричит:
– Девчата! Наташа! Аннушка, Ориша! Давайте в прятки!
Фрося прячется все время в одном и том же месте – в неглубокой канаве за медовкой. Укрывшись там, она с бьющимся, готовым выпрыгнуть из груди сердцем, со сладкой болью под ложечкой ждет: вот сейчас зашуршит рядом, и он неловко свалится в канаву и, горячий, желанный, обнимет ее и спросит: «Ждала?» – «Угу», – приглушенно ответит она и доверчиво потянется к нему холодными робкими губами. Над ними низко свисают яблони. Иван протянет руку, сорвет одно, сунет в рот девушке, та подымет подбородок поближе к его лицу, хитро подмигнет ему, и, соединив губы, они будут откусывать от одного яблока одновременно; сок потечет по губам, наполнит рот, и, захлебываясь им, как счастьем, они тихо засмеются: Фрося будет играть его мягкими кудрями, влажно спадающими на лоб, на блестящие в темноте глаза; притянув его большую круглую голову, опять поцелует, затем, спохватившись, испуганно скажет: «Иди, увидют!» Он убежит…
Однажды хороводились в саду до поздней ночи. Удод уже трижды предупредил, что «худо тут», что пора, мол, отправляться по домам, коростель скрипел надсадно и особенно сердито, всполошились невидимые пичуги – залепетали, загалдели, в лесу два раза кликушески прокричал филин, далеко, на Вонючей поляне, зазвонил перепел: «Спать пора, спать пора». Сад устало исходил теплым влажным зноем смешанных запахов росных трав малины, яблок и меда. Сверху на него кропили тихие звезды.
– Ну, хлопцы, пора! – возвестил молодой хозяин и вдруг с удивлением обнаружил, что компания их испарилась больше чем наполовину.
Первыми неслышно ускользнули Мишка Песков с Аннушкой. За ними Полетаев и Фрося – вот это уж было больнее всего… Ушла молодая чета Звоновых, тоже втихую. Остались Федот Ефремов, Василий Маслов, робкая Наташа Пытина да он, Николай. Ничего не поделаешь, придется ему провожать Наталью до Панциревки, чего доброго, могут еще поколотить панциревские ребята.
– Федот, Васька! Пошли со мною – Наташу проводим! – попросил он и от досады оглушительно свистнул. Над головами опять вспорхнули угомонившиеся было птицы, суматошно покружили в темноте и пропали где-то. В лесу снова захохотал филин.
– Черт тебя раздирает! – погрозил в темноту Николай и направился к лодке, чтоб перевезти всех на ту сторону Игрицы, откуда до Панциревки рукой подать. Мимо Вишневого омута промчались бегом. Как ни храбрились хлопцы, но и они не выдержали – ноги сами несли их подальше от этого темного места. Вишневый омут по ночам был по-прежнему грозен и страшен для людей.
Иван Полетаев и Фрося возвращались в Савкин Затон дальней лесной дорогой. Шли не торопясь. Говорили мало, больше целовались, всякий раз останавливаясь.
– Марьяжный мой, – шептала Фрося, обливая лицо его светом больших, ясных, родниковых глаз. – Мой, мой! Ведь правда, Вань, мой ты… весь мой! Ну, скажи!
– А то чей же? Знамо, твой.
– Понеси меня маленько.
Он легко поднял ее на руки. Понес.
– Ну, будя.
Он не слушался, нес, нес, нес…
– Будя же!
– Поцелуй!
– Ну… вот. Теперь хватит, пусти.
– Ищо поцелуй.
– Ну… вот тебе, вот, вот! – Она звонко чмокала его несколько раз кряду, спрашивала: – Хватит?
– Ищо!
Их спугнули чужие шаги. Кто-то шел навстречу. Да не один, а двое. Фрося и Иван юркнули в кусты, затаились.
– Михаил Аверьянович, – угадал Иван, шепча. – А кто это с ним? Ба, да это ж Улька! Она и есть! Глянь!
Михаил Аверьянович и Улька прошли молча. Михаил Аверьянович держал свою спутницу за руку, как бы боясь, что она может убежать от него, шагал быстро, а Улька едва поспевала за ним.
Фросе почему-то стало не по себе.
– Бежим, Вань! – сказала она, когда вновь вышли на дорогу.
– А куда нам торопиться-то?
– Нет, бежим, бежим! – И, вырвавшись из рук его, она побежала первой. За Ужиным мостом остановилась, прижалась к его горячей, мокрой от пота рубашке, трудно дыша, призналась: – Боюсь я чего-то, Вань…
– Чего?
– Сама не знаю. А боюсь…
Шли по тихой улице. Он говорил ей что-то, Фрося не отвечала. Печальные и не ведающие, отчего печальные, молча и холодно расстались у ворот ее дома. И не виделись больше до самой осени: Фрося не выходила на улицу.
19