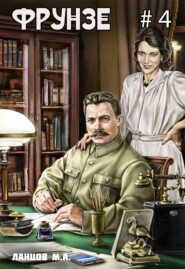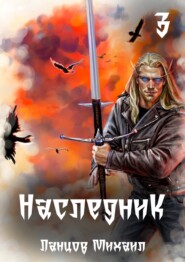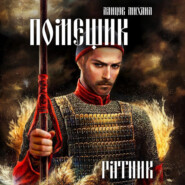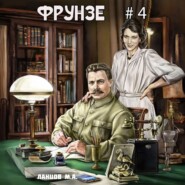По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хмурый Император. Том 2. Восточная война
Автор
Серия
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А ты еще не слышал? Ходят слухи, что испанцы с русскими начали обсуждать проект коренной модернизации испанского флота и армии.
– Так испанцам нечем платить!
– Это пока еще не точно, но, опять-таки по слухам, в качестве платы обсуждается аренда Кубы и Филиппин на полсотни лет.
– Этого еще не хватало!
– А ведь на Россию смотрит не только Испания. В той же Италии все очень не просто. Император, несмотря на наши успехи, не успокаивается и продолжает свои попытки склонить нового короля на свою сторону. А ведь тот женат на Ксении, сестре Императора. И если сейчас король не знает, что делать, то, после того как Россия победит, может склониться к сотрудничеству…
– Но не вступать же с ними в войну самим!
– Разумеется, отец. Сейчас мы к этому не готовы. А даже если бы и были, то зачем? Война будет большой и сложной. Чем ее окупить?
– Твои бы мысли да в голову этому бесноватому… – тяжело вздохнул Отто фон Бисмарк, скосившись на портрет Кайзера Вильгельма II. Устало потер лицо ладонями. И продолжил беседовать со своим сыном… то есть министром иностранных дел, обсуждая сложившуюся диспозицию и возможные шаги Германии для исправления ситуации.
Глава 6
1904 год, 31 марта, Желтое море
Ренненкампф был не уверен в том, что сможет удержать позиции под Ляо-Яном. Поэтому, стремясь снизить давление на свой корпус, он запросил поддержки у флота. Понятно, что японцы имели численное превосходство, и Тихоокеанский флот Российской империи был категорически ограничен в своих возможностях. Но вдруг можно что-то предпринять? И адмирал Макаров предпринял. Он вывел крейсера под командование фон Эссена[25 - Как и Ренненкампф, фон Эссен сделал быструю и блестящую карьеру при обновленном Императоре. Тот прекрасно знал ценность этого кадра, поэтому старался всячески его продвигать.] из Порт-Артура и отправился к Чемульпо, дабы пострелять да пошуметь и, если получится, уничтожить немного транспортов. Главное – создать прецедент, чтобы Того оказался вынужден шевелиться, разрываясь между взаимно исключающимися задачами.
Японцы базировались на Элиотах. Поэтому такой поход был рискованным. Они банально могли отрезать крейсера от Порт-Артура на возврате. И Ренненкампф, и Макаров были прекрасно осведомлены относительно плана Императора. Но попытаться все равно хотели. Вдруг получится? Оба были слишком непоседливыми натурами, чтобы сидеть в этой геополитической засаде тихо и не отсвечивать.
Эссена обнаружили где-то через час после того, как он вышел в море. Адмирал Того применил свой излюбленный прием – завесу из «гражданских» судов. Одна беда – он не учел, что на каждом крупном корабле Тихоокеанского флота России находился переводчик с японского, который должен был дежурить в радиорубке и прослушивать эфир. Само собой, не просто переводчик, а освоивший радиодело в достаточной степени, чтобы принимать морзянку… привычную для японцев. Должен был дежурить и дежурил. Поэтому Эссен узнал о своем обнаружении одновременно с Того.
Что делать? Идти дальше к Чемульпо? Рискованно. Уходить обратно? Вот так вот просто взять и вернуться? Даже не пошумев? Обидно. Хотя бодаться с японцами силами шести корветов он не хотел. Мог, но не хотел.
Корветы строились только в России и больше нигде не применялись. Более того, никто не считал нужным их строить. Да и в России только начали под всеобщее улюлюканье.
Корветы типа «Варяг» имели цельносварной корпус хорошего удлинения с обтекаемым форштевнем и развалом бортов.
– А где таран? – вопили эксперты. – Как же вы без него?
Их оснащали нефтяными котлами и прямоточными паровыми машинами двойного действия и четырехкратного расширения.
– Нефть? Что за вздор! – продолжали вопить эксперты. – Как вы их будете заправлять? Да и эти странные машины… ненадежно все это!
Корабль имел броневой пояс, что формально относило его в класс броненосных крейсеров. Но какой пояс? Основной – в три дюйма, на оконечностях – два.
– Смешно! Это просто смешно! – не унимались эксперты, заплевывая проект.
Да и если, положа руку на сердце, сравнить их с теми же элсвикскими крейсерами, они не выдерживали критики. Тоже броненосными и в том же водоизмещении. И «стволов» у тех было больше, и калибры лучше, и броня толще, а по скорости на половину узла, но превосходили. Да, безусловно, все было так. Но дьявол прятался в мелочах.
Официальной максимальной скоростью «Варяга» был 21 узел. Официально. На деле – 25. И идти в таком режиме «Варяг» мог долго из-за обширного применения подшипников качения в механизмах и очень удачной конструкции нефтяных котлов, которые не изнуряли кочегаров тяжелым трудом. Нюанс? Нюанс. И очень важный. Освети его, и разом изменилось бы отношение к этим кораблям во всем мире. Однако Николай Александрович предпочитал, чтобы его корветы ругали и недооценивали. Это было выгоднее в предстоящей войне.
Другим моментом было то, что броневая защита корветов была частью корпуса, часть его силового набора, что очень сильно поднимало прочность корабля. С артиллерией бы было непросто. «Варяг» нес дюжину шестидюймовок в четырех линейно-возвышенных башнях. То есть по три штуки в каждой.
– Вздор! Ересь! – оценили это решение эксперты, посчитав башни слишком тесными для такого многочисленного вооружения. Обозвав такие башни поворотными батареями.
И так было во всем. Корабли методично и вдумчиво заплевывали. Начиная со сварки, которая-де разваливается при волнении, и заканчивая неправильной окраской. Даже наличие шести дальномерных постов на каждом корвете, и то осмеяли. Зачем столько? Основной, резервный и в каждой башне по индивидуальному. Что за глупость. Знали бы то, что центральный артиллерийский пост был оснащен механическими вычислителями, так и это осмеяли бы.
Эссен был в курсе, какими кораблями управляет. Он знал их не из газет, а на деле. Поэтому был уверен – сразиться с Камимурой он сможет. И, возможно, даже победит. Но это будет очень кровавой победой. А зачем ему это? Их и без того в Санкт-Петербурге за эту инициативу по головке не погладят, а тут еще потери. Поэтому он, сохраняя курс на Чемульпо, дал шифрованную радиограмму Макарову, предлагая план действий…
Достигнув Чемульпо, Эссен увидел то, что ожидал – пустой внешний рейд. Все транспорты или набились внутрь, или убежали. Он замер в, казалось бы, нерешительности, опасаясь входить на внутренний рейд. Да и вообще – болтался на виду у японцев, но ничего не предпринимал. Вроде как осматривался и проводил разведку.
Наконец где-то спустя полтора часа после начала этого нерешительного топтания появился Камимура со своими «асамами». И Эссен сразу дал ходу, имитируя бегство, даже не вступая в перестрелку. Причем скорость решил держать такую, чтобы Камимура просто болтался в хвосте, не догоняя и не отставая.
Однако, когда русская эскадра из шести корветов только миновала полуостров Шаньдун, как на горизонте замаячили дымы. Это обрадовало Эссена. Он запросил у Макарова коррективы маневра… но оказалось, что это не Макаров… это был Того. И Эссен едва не подставился. Смущало, конечно, что слишком уж коптили. Русские броненосцы, как и корветы, были нефтяными и так смачно не чадили. Но мало ли?
Пришлось осторожно отворачивать, сообщая Макарову о новом игроке. Выходил какой-то каламбур – ловушка в ловушке на ловушку. Так или иначе, но адмирал Того прижимал Эссена к китайскому берегу, не давая проскочить в Порт-Артур. Можно было ускориться, но расстояния было не так много – не пройти. Его явно загоняли в Бохайское море, где планировали разложить, как куренка на блюде. Слишком близко сближаться с броненосцами выглядело крайне опасно. Конечно, игроки в известную онлайн-игру посчитали бы иначе. Ведь легкие крейсера там были способны «выжигать» линкоры без всякого напряжения сил. Но это там, а здесь была реальность. И одной-двух плюс главным калибром с броненосца вполне хватало, чтобы искалечить любой из корветов.
И тут к делу подключился Макаров. Он заранее отошел к китайскому берегу, ближе к заливу Лайчжоу, чтобы захлопнуть Камимуру, преследующего Эссена, закрывая того в Бохайском море. Узнав же про Того, менять что-то стало поздно, просто вынырнул пораньше.
1-я японская эскадра, опознав противника, сразу отвернула на северо-запад, блокируя отход русских броненосцев к Порт-Артуру. Эссен тоже резко отвернул на север, за ним повернул Камимура. Тут-то и выяснилось, что ни корветы, ни броненосцы русских совершенно не соответствуют тем параметрам, которые были записаны в публичных справочниках.
Все три ЭБР типа «Полтава» строили в той же технологической парадигме, что и корветы типа «Варяг». То есть цельносварной корпус хорошего удлинения с обтекаемым форштевнем и развалом бортов. Броневая защита, интегрированная в силовой набор. Только она тут была существенно лучше, хоть и крепилась все так же – мощными болтами и сваркой. Эта интегрированность позволила занизить толщину бронирования, так как она плохо наблюдалась со стороны.
Нефтяные котлы и прямоточные паровые машины, аналогичные тем, что стояли на «Варягах», позволяли разгонять эти 16 тысяч тонн до 21 узла! Хотя в справочниках числилось 13 тысяч тонн и жалкие 16 узлов.
Другим важным нюансом оказалась артиллерия.
Главный калибр был представлен классикой – 305-мм при 40 калибрах. Совершенно стандартное орудие для практически всех эскадренных броненосцев 1-го ранга в мире. Официально. На деле в башнях главного калибра стояли те самые 340-миллиметровые пушки, которыми так восторгался Император на Всемирной выставке в Париже… Он их заказал довольно большой партией в доработанном варианте[26 - Речь идет о 340-мм/42 французских орудиях образца 1887 года. Доработка заключалась в увеличении толщины ствола и внедрении лейнера – сменной внутренней части.] для глубокой модернизации береговой обороны Финского залива. Но… внезапно… «что-то где-то перепутали», и на береговые батареи пошли 305-миллиметровые орудия, а на корабли – 340-миллиметровые. Впрочем, о том, что произошла путаница, нигде не трубили, так что в международные справочники пошло то, что заявляли изначально. Ведь никого с линейкой не пускали мерить диаметр ствола, а на вид… мало ли что вам там мерещится? Закусывайте!
С промежуточным калибром было еще странней. Он был представлен пятидюймовыми орудиями. Да, их было много. На каждый борт по четыре линейно-возвышенные башни с парой таких вот «пятаков». Плюс по башне линейно-возвышенной стояло за ГК. Таким образом, на каждом борту могло работать по дюжине пятидюймовых орудий. Классно? Весьма. Но в представлении тех лет это было в корне неправильно. Нужно было ставить «шестидюймовки», которые считались основным вооружением броненосца. Смешно? Может быть. Но до Русско-японской войны идея all-big-gun была непопулярна. И даже в ходе сражений в Желтом море русские моряки больше ценили свои 152-миллиметровые орудия, чем главный калибр, выступавший скорее этакой вспомогательной кувалдой. Средством для добивания. И они были не одиноки в таком подходе. Грубо говоря, никто иначе и не считал, за исключением небольшой горстки маргиналов.
Противоминного калибра у ЭБР типа «Полтава» не было вовсе, как и торпедных аппаратов, что вызывало особенно жгучую волну насмешек. Странное вооружение, вкупе с публично заниженными характеристиками, сделали свое дело. Адмирал Того русских броненосцев не боялся и шел на них уверенно. А зря…
Увешанные дальномерами, как новогодние елки, и оснащенные механическими вычислителями, «Полтавы» открыли огонь главным калибром с шестидесяти кабельтовых. Могли бы и раньше, так как стволы их задирались до 45 углов. Но не стали рисковать. Причем бить начали с «Полтавы» полузалпами главного калибра, пристреливаясь.
Залп. Залп. Залп. Залп. Залп. Накрытие!
Дольше, чем обычно. По уставу нужно было достигать накрытие третьим, максимум четвертым, а тут – шестым. Но канониры нервничали.
Впрочем, это было тут же компенсировано тем, что к празднику подключились «Петропавловск» и «Севастополь». На них передали данные с артиллерийского поста, и возле головного ЭБР «Асахи» начали подниматься столбы накрытий. Били фугасами, поэтому снаряды взрывались от удара об воду и осыпали японский броненосец крупными осколками.
И вот – первое попадание.
340-миллиметровый стальной фугас массой 582 кг ударил в барбет правого борта и взорвался, высвобождая энергию 98 кг тротила[27 - В оригинальной истории 305-миллиметровые фугасные снаряды образца 1895 года имели массу 331 кг и несли 12,4 кг пироксилина. Снаряд оригинальной 340-мм/40 пушки имел массу 490 кг и был снаряжен без малого тремя десятками кг ВВ. Для нового 340-миллиметрового орудия применялась стрельба тяжелыми стальными снарядами большого удлинения, аналогичными тем, что использовали в годы ПМВ или после нее.]. Эффект нокаута! «Асахи» повело на курсе. Но он быстро выправился и, обильно чадя дымом, стал отходить за линию своей эскадры.
Того очень недовольно нахмурился. Всего одно попадание, и такой эффект. Что-то здесь не так. Так не бывает. Тем более что снаряд зашел просто в надстройку. Однако, когда «Асахи» поравнялся с «Микасой», адмирал все понял. Правого барбета с шестидюймовыми орудиями у того почти не было, а дымовая труба опасно накренилась, что в немалой степени усиливало задымление и мешало тушению пожара.
– Чем они начиняют свои снаряды? – спросил сам себя Того.
– Ничем особенным, – ответил командир корабля. – Просто взорвались снаряды первой очереди, которые нужно держать у оружий.
– Вы думаете? – с некоторым облегчением переспросил Того, с радостью признавая тот факт, что необъяснимое объяснилось. Правильно или нет – не важно, главное было в том, что он мог продолжать бой, не опасаясь подобных сюрпризов.
Однако второе попадание, которого добились русские броненосцы, вырвало броневую плиту главного пояса у «Хацусе». Она просто сорвалась с креплений и утонула. Снова случайность? И взрыв по силе вполне сопоставим. Здесь объяснение командира корабля не подходило. А ведь корабли еще даже не сблизились на сорок кабельтовых и 1-я эскадра японского флота не открывала огня.