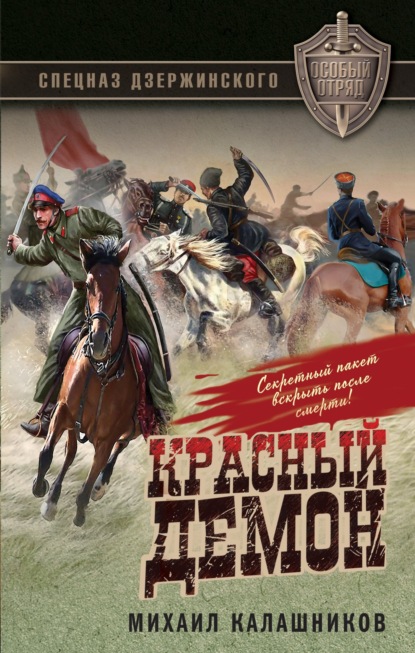По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Красный демон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Именинницу зовут Агнесса Васильевна, – заочно знакомил Сабуров Глеба с новой компанией. – Еще не вдова, но где ее муж, она не знает: то ли воюет на севере у Юденича, то ли вообще выехал за границу. У нее целый сонм молоденьких подруг, поэтому скучать нам с вами не придется.
– Где я только не был, Климентий Константинович, – с жаром принимал его интерес Гаранин, – но лучше русских женщин не увидел. До войны удавалось выехать в Париж и отдыхать на немецких водах, поверьте моему слову – дело имел не только с ночными бабочками, но и с дамами из общества. Как нахваливает наша литература, а вслед за нею и общественность, француженок! Ни черта против наших, уж ваше право – верить или нет.
Сабуров поджал губу и значительно покивал головой, изображая на лице легкую зависть:
– А мне, знаете ли, не довелось иностранного тела попробовать. Хотя нет – вру, была одна пухленькая латышка с необъятными бедрами. А что она вытворяла своими ягодицами…
Спутник Гаранина явно издевался над ним, и Глеб немного недоумевал: «Ты же сам затеял эту игру, так зачем теперь ерничаешь? Плата за вчерашнюю промашку на совещании или продолжаешь меня раскусывать?»
Сам Гаранин врал про иностранные интрижки. Он бывал в Париже и Баден-Бадене, но оставлял всегда чистыми тело и душу. У него случались в молодости влюбленности, случались романы, он даже знал несколько способов обольщения женщин, ведь в его профессии без этого нельзя, но случая применить эти способы пока не возникало. Гаранин делил постель с одной лишь иностранкой, в бедном румынском захолустье осенью шестнадцатого года…
После Брусиловского прорыва маленькое королевство решило, что у него достаточно мощи потягаться силами с побитой русскими Австро-Венгрией, и ударило ей через южную гряду Карпат в подбрюшье. К побитым австрийцам, как всегда, на помощь пришли их более стойкие собратья – немцы и погнали румын обратно через горы, а с правого дунайского берега уже летели злобные болгарские крики: «Вы нам еще за девятьсот тринадцатый год ответите, проклятые мамалыжники!»[2 - Речь идет о Второй Балканской войне, когда румыны отвоевали у болгар часть Добруджи.] Румыны с воплем взывали о помощи к своему восточному соседу. Дивизию, к которой был прикреплен тогда Гаранин, перебросили с Юго-Западного на самый север Румынского фронта, к горным карпатским вершинам. Край смешанного населения и языка: румына не отличишь от мадьяра, жида от цыгана, а гуцула от молдаванина.
К декабрю фронт замер, и Гаранин, обрядившись в крестьянские обноски, пошел в свой первый рейд за линию фронта. На Юго-Западном он почти не бывал на позициях, сидел в ближнем тылу, занимался бумажной работой, вел допросы пленных и всякого рода «подозрительных», схваченных на дорогах пикетами. А тут впервые была горячая работа на земле, Гаранин давно тосковал по такому. За долгие месяцы квартирования в Галиции он достаточно уверенно изучил здешний диалект, каждодневно упражнялся в лавках и на улицах, оттачивая нужное произношение. Глеб успел узнать несколько фраз на румынском и рассчитывал на смеси этих двух языков объясняться с жителями и встреченными в пути австрийскими патрулями.
С местными ему поговорить почти не удалось, в первом встретившемся патруле ему попался трансильванский румын, заметивший его скверное румынское произношение. Гаранина тут же взяли за шкирку, стали бить, как беспородную дворовую собачонку.
– Кто ты есть на самом деле? – орал на него румын, охаживая по ребрам прикладом.
Гаранин с перепугу лепетал на чистом украинском выговоре:
– Я тутошний, паны солдаты, я ту-тош-ний!
Его продолжали бить, пока с диким криком не налетела в их толпу молодая румынка. Она упала на Гаранина, закрыла его своим телом, неистово запричитала непонятные для Гаранина румынские слова:
– Чертовы «освободители»! Хотите совсем его замордовать?! Это муж мой! Он не отсюда, он с австрийской стороны гор! До войны мы женились с ним, нашего языка он так и не выучил, знает плохо…
Солдаты поначалу отшатнулись, обалдев от бабьего крика, потом сказал один из них:
– Коли он из Австрии, так должен знать по-немецки.
Инстинкт выживания помог Гаранину:
– Совсем немного я знаю, совсем, совсем немного! Пан смотритель, эта чечевица по две кроны, а вот эту, дробленую, отдам за полторы, – сознательно коверкая произношение и нарушая падежи, лепетал он немецкие слова своим разбитым ртом.
Солдаты поглядели на его жалко скукоженное тело, на крестьянку, прижимавшую его голову к своей груди, как родную, и трансильванский румын с сочувствием спросил:
– Что, приятель, тоже гнул до войны спину на арендатора? Проваливай, чтоб больше тебя не видели. А ты береги своего австрияка и скажи ему, чтоб начинал учить тебя по-немецки – швабы пришли сюда надолго.
Крестьянка уволокла Гаранина к себе в хижину, кинула в углу холодных сенцев охапку соломы и застелила ее рядном, молча указав ему ложиться. Он провел у нее неделю, медленно зализывая раны, почти не выходил за огорожу, слонялся по двору, о разведке уже не думал, хотелось живым вернуться за линию фронта. Хозяйка понимала, что ему нужно отлежаться, в таком состоянии он бы далеко не ушел, делила с ним скудные плоды своей земли и летнего труда, иногда говорила с ним, больше знаками, чем словами объясняя, что мужа забрали в армию и он уплыл вслед за войсками туда – в русскую сторону. А в последнюю ночь позвала его из холодных сеней в халупу. День ото дня Гаранин понимал все больше румынских слов. Крестьянка потянула через голову ночную рубашку, сказав: «Может, и у вас какая баба моего Михая пожалеет».
Он помнил до сих пор ее горячие поцелуи, заставлявшие снова кровоточить его едва поджившие после солдатских ударов губы, ее прерывистое дыхание…
Сабуров велел своей лошади остановиться. Они замерли перед высокими деревянными воротами с башенками. На втором этаже каменного мещанского дома из распахнутого окна раструб патефона скрежетал новомодное танго, слышался звон посуды и оживленная беседа.
– Да мы запаздываем, поручик, – с видимой озабоченностью сказал Сабуров.
– Джентльменам так поступать не подобает – скорее наверх, – поддержал его Гаранин.
У именинницы собралось не меньше десятка гостей, Сабуров не обманул – в основном женского пола. Гаранина он подвел к виновнице и представил. Это была дама нестарая, приятной внешности, в прошлом, несомненно, обладавшая совсем иным лоском и размахом и теперь все это растерявшая, но не согласная мириться с нынешним своим положением и в столь скудные времена отказываться от маленького праздника. У нее все еще оставались знакомые и приятели, кое-какая родня, которая позволяла ей держаться на плаву и не искать службы во вновь открывавшихся по городу ведомствах. Вся эта приятельская компания и была нынче здесь: три-четыре дамы примерно возраста именинницы, пожилая пара, два деловитых господина и еще какие-то одинокие девушки, приходившиеся Агнессе Васильевне одновременно приятельницами и племянницами. Плавно ходила между гостями и обстановкой горничная, разнося закуски и напитки.
В атмосфере плавали разговоры:
– Большевики твердят о свободе, но где она? – втолковывал один деловитый господин другому. – Вместо нее я слышу лишь ненавистные выпады в сторону Бога: «Религия есть опиум». Да, пусть так, но я-то хочу сам до этого дойти, своим свободным умом. Положите передо мной антирелигиозную брошюру, но не прячьте при этом Евангелие, не несите его торжественно на костер. Оставьте Евангелие для моего свободного выбора, и тогда, соизмерив ваше большевицкое антирелигиозное творение и Библию, я, возможно, и скажу: «Бога нет». Но не в этой идиотической ситуации, когда вы берете и просто отменяете Бога, сжигая его на костре.
Его приятель соглашался с такой яростью, словно спорил со своим оппонентом:
– Эта поганая революция есть революция неслыханных свобод и безбожных экспериментов. Свобода от совести, от всяких обязанностей, от нравственности и морали, от чести и достоинства, свобода от Отечества и любви к ближнему.
К ним присоединился пожилой господин со своей спутницей:
– Ах, если бы Чернышевский, Герцен и Толстой дожили до революции – заплакали бы кровавыми слезами и от всего бы отреклись. Уверяю вас.
Оба господина тактично закивали головами, и старик, поощренный этим, понес дальше:
– Говорю вам точно, господа, большевики рукотворно распространяют бактерии сыпного тифа.
Волна сомнения пробежала по лицам обоих деловитых господ, один из них осторожно заметил:
– Это сомнительно, они ведь не застрахованы от болезни и сами.
– Что им до российского населения? До этих вот комиссаров, что исполняют их волю на местах? Сами-то они сидят за Кремлевской стеной, в народ не спускаются, а потому и ничем не рискуют. Миллионом русских больше, миллионом меньше. Главное для них – сохранить власть!
Гаранин старался не слушать этих разговоров, сразу поняв их бредовую незначимость, старался сконцентрироваться на другом, но память невольно вытолкнула его недавний разговор с одним из чекистов. Речь зашла о тех десятках тысяч «лишних» людей, которые, несомненно, останутся после победы в войне. Приятель доверительно говорил тогда Гаранину:
– Ты что ж думаешь, они потом скажут: «Ага, господа большевики, вы выиграли, мы проиграли, давайте жить под одним солнцем». Нет, не игра это, а война. До полного конца, полного уничтожения. И мы их породу всю подчистую выведем с этого света. А тот, кто в Париж там или Берлин успел убежать, и там настигнем.
– Да как же это так? – не соглашался Гаранин. – А где же закон гуманизма?
– Это не наше слово – буржуйское. Его нынче вместе с Богом отменили.
Из воспоминаний Гаранина выдернули новые возгласы:
– Правительство большевиков намеренно ввело продразверстку, ведь забирая все и давая от этого малую кроху, можно управлять людьми. Кинь им любой приказ – и они, голодные и озлобленные, за кусок хлеба попрут на другой край земли вершить мировую революцию.
– Дьявольское коварство и несусветная хитрость.
Гаранина, невольно ухватывавшего обрывки этих разговоров, поочередно всем представили, и они с Сабуровым подошли к столику с домашними винами. Взяв по бокалу, стали гадать: считается ли моветоном в здешнем «свете» вальсировать под патефон.
– Вы уже выбрали предмет обожания? – с серьезной миной интересовался Сабуров.
– Да, вы знаете, я желаю, чтобы вы не становились у меня на пути, когда я пойду приглашать вон ту жгучую брюнетку.
– Умм, любите сладенькое, – паясничал Сабуров.
– С потрохами бы умял, – подхватывал Гаранин, мечтая о том, чтобы быстрее все это кончилось.
– Вы верите в наш успех? – внезапно спросил Сабуров на французском.
– Где я только не был, Климентий Константинович, – с жаром принимал его интерес Гаранин, – но лучше русских женщин не увидел. До войны удавалось выехать в Париж и отдыхать на немецких водах, поверьте моему слову – дело имел не только с ночными бабочками, но и с дамами из общества. Как нахваливает наша литература, а вслед за нею и общественность, француженок! Ни черта против наших, уж ваше право – верить или нет.
Сабуров поджал губу и значительно покивал головой, изображая на лице легкую зависть:
– А мне, знаете ли, не довелось иностранного тела попробовать. Хотя нет – вру, была одна пухленькая латышка с необъятными бедрами. А что она вытворяла своими ягодицами…
Спутник Гаранина явно издевался над ним, и Глеб немного недоумевал: «Ты же сам затеял эту игру, так зачем теперь ерничаешь? Плата за вчерашнюю промашку на совещании или продолжаешь меня раскусывать?»
Сам Гаранин врал про иностранные интрижки. Он бывал в Париже и Баден-Бадене, но оставлял всегда чистыми тело и душу. У него случались в молодости влюбленности, случались романы, он даже знал несколько способов обольщения женщин, ведь в его профессии без этого нельзя, но случая применить эти способы пока не возникало. Гаранин делил постель с одной лишь иностранкой, в бедном румынском захолустье осенью шестнадцатого года…
После Брусиловского прорыва маленькое королевство решило, что у него достаточно мощи потягаться силами с побитой русскими Австро-Венгрией, и ударило ей через южную гряду Карпат в подбрюшье. К побитым австрийцам, как всегда, на помощь пришли их более стойкие собратья – немцы и погнали румын обратно через горы, а с правого дунайского берега уже летели злобные болгарские крики: «Вы нам еще за девятьсот тринадцатый год ответите, проклятые мамалыжники!»[2 - Речь идет о Второй Балканской войне, когда румыны отвоевали у болгар часть Добруджи.] Румыны с воплем взывали о помощи к своему восточному соседу. Дивизию, к которой был прикреплен тогда Гаранин, перебросили с Юго-Западного на самый север Румынского фронта, к горным карпатским вершинам. Край смешанного населения и языка: румына не отличишь от мадьяра, жида от цыгана, а гуцула от молдаванина.
К декабрю фронт замер, и Гаранин, обрядившись в крестьянские обноски, пошел в свой первый рейд за линию фронта. На Юго-Западном он почти не бывал на позициях, сидел в ближнем тылу, занимался бумажной работой, вел допросы пленных и всякого рода «подозрительных», схваченных на дорогах пикетами. А тут впервые была горячая работа на земле, Гаранин давно тосковал по такому. За долгие месяцы квартирования в Галиции он достаточно уверенно изучил здешний диалект, каждодневно упражнялся в лавках и на улицах, оттачивая нужное произношение. Глеб успел узнать несколько фраз на румынском и рассчитывал на смеси этих двух языков объясняться с жителями и встреченными в пути австрийскими патрулями.
С местными ему поговорить почти не удалось, в первом встретившемся патруле ему попался трансильванский румын, заметивший его скверное румынское произношение. Гаранина тут же взяли за шкирку, стали бить, как беспородную дворовую собачонку.
– Кто ты есть на самом деле? – орал на него румын, охаживая по ребрам прикладом.
Гаранин с перепугу лепетал на чистом украинском выговоре:
– Я тутошний, паны солдаты, я ту-тош-ний!
Его продолжали бить, пока с диким криком не налетела в их толпу молодая румынка. Она упала на Гаранина, закрыла его своим телом, неистово запричитала непонятные для Гаранина румынские слова:
– Чертовы «освободители»! Хотите совсем его замордовать?! Это муж мой! Он не отсюда, он с австрийской стороны гор! До войны мы женились с ним, нашего языка он так и не выучил, знает плохо…
Солдаты поначалу отшатнулись, обалдев от бабьего крика, потом сказал один из них:
– Коли он из Австрии, так должен знать по-немецки.
Инстинкт выживания помог Гаранину:
– Совсем немного я знаю, совсем, совсем немного! Пан смотритель, эта чечевица по две кроны, а вот эту, дробленую, отдам за полторы, – сознательно коверкая произношение и нарушая падежи, лепетал он немецкие слова своим разбитым ртом.
Солдаты поглядели на его жалко скукоженное тело, на крестьянку, прижимавшую его голову к своей груди, как родную, и трансильванский румын с сочувствием спросил:
– Что, приятель, тоже гнул до войны спину на арендатора? Проваливай, чтоб больше тебя не видели. А ты береги своего австрияка и скажи ему, чтоб начинал учить тебя по-немецки – швабы пришли сюда надолго.
Крестьянка уволокла Гаранина к себе в хижину, кинула в углу холодных сенцев охапку соломы и застелила ее рядном, молча указав ему ложиться. Он провел у нее неделю, медленно зализывая раны, почти не выходил за огорожу, слонялся по двору, о разведке уже не думал, хотелось живым вернуться за линию фронта. Хозяйка понимала, что ему нужно отлежаться, в таком состоянии он бы далеко не ушел, делила с ним скудные плоды своей земли и летнего труда, иногда говорила с ним, больше знаками, чем словами объясняя, что мужа забрали в армию и он уплыл вслед за войсками туда – в русскую сторону. А в последнюю ночь позвала его из холодных сеней в халупу. День ото дня Гаранин понимал все больше румынских слов. Крестьянка потянула через голову ночную рубашку, сказав: «Может, и у вас какая баба моего Михая пожалеет».
Он помнил до сих пор ее горячие поцелуи, заставлявшие снова кровоточить его едва поджившие после солдатских ударов губы, ее прерывистое дыхание…
Сабуров велел своей лошади остановиться. Они замерли перед высокими деревянными воротами с башенками. На втором этаже каменного мещанского дома из распахнутого окна раструб патефона скрежетал новомодное танго, слышался звон посуды и оживленная беседа.
– Да мы запаздываем, поручик, – с видимой озабоченностью сказал Сабуров.
– Джентльменам так поступать не подобает – скорее наверх, – поддержал его Гаранин.
У именинницы собралось не меньше десятка гостей, Сабуров не обманул – в основном женского пола. Гаранина он подвел к виновнице и представил. Это была дама нестарая, приятной внешности, в прошлом, несомненно, обладавшая совсем иным лоском и размахом и теперь все это растерявшая, но не согласная мириться с нынешним своим положением и в столь скудные времена отказываться от маленького праздника. У нее все еще оставались знакомые и приятели, кое-какая родня, которая позволяла ей держаться на плаву и не искать службы во вновь открывавшихся по городу ведомствах. Вся эта приятельская компания и была нынче здесь: три-четыре дамы примерно возраста именинницы, пожилая пара, два деловитых господина и еще какие-то одинокие девушки, приходившиеся Агнессе Васильевне одновременно приятельницами и племянницами. Плавно ходила между гостями и обстановкой горничная, разнося закуски и напитки.
В атмосфере плавали разговоры:
– Большевики твердят о свободе, но где она? – втолковывал один деловитый господин другому. – Вместо нее я слышу лишь ненавистные выпады в сторону Бога: «Религия есть опиум». Да, пусть так, но я-то хочу сам до этого дойти, своим свободным умом. Положите передо мной антирелигиозную брошюру, но не прячьте при этом Евангелие, не несите его торжественно на костер. Оставьте Евангелие для моего свободного выбора, и тогда, соизмерив ваше большевицкое антирелигиозное творение и Библию, я, возможно, и скажу: «Бога нет». Но не в этой идиотической ситуации, когда вы берете и просто отменяете Бога, сжигая его на костре.
Его приятель соглашался с такой яростью, словно спорил со своим оппонентом:
– Эта поганая революция есть революция неслыханных свобод и безбожных экспериментов. Свобода от совести, от всяких обязанностей, от нравственности и морали, от чести и достоинства, свобода от Отечества и любви к ближнему.
К ним присоединился пожилой господин со своей спутницей:
– Ах, если бы Чернышевский, Герцен и Толстой дожили до революции – заплакали бы кровавыми слезами и от всего бы отреклись. Уверяю вас.
Оба господина тактично закивали головами, и старик, поощренный этим, понес дальше:
– Говорю вам точно, господа, большевики рукотворно распространяют бактерии сыпного тифа.
Волна сомнения пробежала по лицам обоих деловитых господ, один из них осторожно заметил:
– Это сомнительно, они ведь не застрахованы от болезни и сами.
– Что им до российского населения? До этих вот комиссаров, что исполняют их волю на местах? Сами-то они сидят за Кремлевской стеной, в народ не спускаются, а потому и ничем не рискуют. Миллионом русских больше, миллионом меньше. Главное для них – сохранить власть!
Гаранин старался не слушать этих разговоров, сразу поняв их бредовую незначимость, старался сконцентрироваться на другом, но память невольно вытолкнула его недавний разговор с одним из чекистов. Речь зашла о тех десятках тысяч «лишних» людей, которые, несомненно, останутся после победы в войне. Приятель доверительно говорил тогда Гаранину:
– Ты что ж думаешь, они потом скажут: «Ага, господа большевики, вы выиграли, мы проиграли, давайте жить под одним солнцем». Нет, не игра это, а война. До полного конца, полного уничтожения. И мы их породу всю подчистую выведем с этого света. А тот, кто в Париж там или Берлин успел убежать, и там настигнем.
– Да как же это так? – не соглашался Гаранин. – А где же закон гуманизма?
– Это не наше слово – буржуйское. Его нынче вместе с Богом отменили.
Из воспоминаний Гаранина выдернули новые возгласы:
– Правительство большевиков намеренно ввело продразверстку, ведь забирая все и давая от этого малую кроху, можно управлять людьми. Кинь им любой приказ – и они, голодные и озлобленные, за кусок хлеба попрут на другой край земли вершить мировую революцию.
– Дьявольское коварство и несусветная хитрость.
Гаранина, невольно ухватывавшего обрывки этих разговоров, поочередно всем представили, и они с Сабуровым подошли к столику с домашними винами. Взяв по бокалу, стали гадать: считается ли моветоном в здешнем «свете» вальсировать под патефон.
– Вы уже выбрали предмет обожания? – с серьезной миной интересовался Сабуров.
– Да, вы знаете, я желаю, чтобы вы не становились у меня на пути, когда я пойду приглашать вон ту жгучую брюнетку.
– Умм, любите сладенькое, – паясничал Сабуров.
– С потрохами бы умял, – подхватывал Гаранин, мечтая о том, чтобы быстрее все это кончилось.
– Вы верите в наш успех? – внезапно спросил Сабуров на французском.