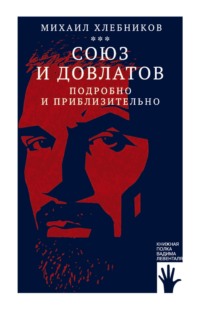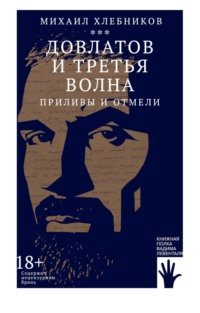Строгий отчет
Тут нужно заметить, что проблема «знания жизни» – одна из причин общего падения интереса к литературе. Интерес к автору с «прошлым» ведет к тому, что неожиданным плюсом становятся факты биографии, которые языком науки обозначаются как «девиантность» и «маргинальность». Алкогольное прошлое считается серьезной заявкой на вхождение в литературу. Преодоленная наркомания идет классом выше: «уникальный жизненный опыт». Отсидка – тут можно рассчитывать сразу на включение в шорт-лист какой-либо престижной премии. При этом отечественных Чарльзов Буковски и Вильямов наших Берроузов все равно как-то не наблюдается. Авторам не о чем писать, поэтому читателю незачем читать. Исторические романы и фантастика даются не всем, да и поляна там достаточно утоптанная. Для сегодняшнего писателя средних лет, но с высокими – то есть нормальными для писателя – амбициями проблема выбора материала – не пустой звук.
Есть ли выход из данной ситуации? Есть. И решение, как говорили раньше, должно носить комплексный характер. Предлагаю обратиться к опыту бездуховного Запада и вспомнить такие понятия, как creative writing и «университетский поэт». Большинство западных университетов и колледжей предлагает программы «творческого письма». Значительная часть преподавательских кадров состоит из действующих писателей. Считаю необходимым использовать накопленный опыт в отечественной высшей школе. И сразу возникнет обоснованное сомнение. Какой из вузов захочет по собственной воле «нанимать» писателя? Механизм же стимуляции достаточно простой. Сделать наличие собственного писателя в университете бонусом при прохождении многочисленных плановых и внеплановых аттестаций и проверок, при составлении рейтингов вузов. Кроме этого, «свой писатель» – важный элемент персонификации вуза, способ выделиться среди себе подобных. Заманивать абитуриентов и их родителей новыми баскетбольными мячами и командой КВН, прошедшей в областной полуфинал, уже несколько старомодно. Необходима индивидуализация.
Очень важно, чтобы «университетский писатель» не был социальным иждивенцем, просто получающим зарплату. Он должен вести разработанный им факультативный курс свободной тематики: «Проблемы современного городского фэнтези», «Современная русская поэзия (от Бродского до меня)», «Трагедия и величие писателя, не понятого своим временем». Не нужно устанавливать какие-то количественные рамки посещаемости курса. Двадцать человек – прекрасно, два – тоже хорошо. Будут ходить те, кому это интересно. Среди молодого поколения много тех, кто тянется к писательству, но не удовлетворен пабликами в социальных сетях или роликами на YouTube. В воспоминаниях многих больших, состоявшихся писателей присутствует почти обязательная сцена. Он, неуверенный в себе вьюнош, побуждаемый родителями получить нормальную профессию (строитель, учитель, инженер), встречает «настоящего писателя». Надежды родителей рушатся. Да, прошло время, мы живем в эпоху цифры. Но при всей изощренности современных технологий эффекта личного общения ничто не способно заменить. В будущем армия маркетологов или айтишников может и потерять одного из своих бойцов. Им же, надеюсь, прирастет отечественная словесность.
Впрочем, «творческое письмо» обязательно пригодится и тем, кто писателем не станет. В наших школах, где ученики по-прежнему исправно строчат сочинения, правильной организации текста почти не учат. Выпускники не знают ни о ритмических приемах в прозе, ни о «плотности текста», ни о контрапунктах. А ведь эти знания помогут написать и толковый пресс-релиз, и сценарий документалки об Уральском руднике, и длинное романтическое письмо девушке. Чего в жизни не бывает? Даже банальная заявка на какой-нибудь президентский грант у того, кто владеет creative writing, получится гораздо более связной и отчетливой, чем у конкурента.
Теперь несколько слов о самом университетском писателе. Что получает он помимо денег и стажа к гипотетической пенсии? Каков его нематериальный интерес? Он есть. Это обратная сторона общения студента с писателем. Автор также «закупорен» в своем пространстве, ему катастрофически не хватает общения за рамками привычного круга. Вдобавок издержки профессии и груз традиций: склонность к рефлексии, мрачноватый взгляд на мир, сформированный под влиянием русской классики, для которой «бедные люди – пример тавтологии». Но очень часто стенания по поводу несовершенства мира объясняются банальным незнанием этого самого мира. Общение с молодым поколением может и должно поколебать эти вековые установки. Конечно, самым лучшим итогом работы университетского писателя станут книги, написанные им. И они будут важны не только для него. Спросим себя: кто и когда читал роман о современном студенчестве? И здесь я с некоторым ужасом осознаю, что в памяти у меня всплывают чуть ли не «Университет» Григория Коновалова и «Студенты» Юрия Трифонова. Кто сегодня знает, чем живет, интересуется, к чему стремится эта не самая маленькая часть нашего общества? Которая, извините, является нашим будущим. Почему потенциально премиальные книги о «невписавшихся» важнее взгляда на тех, кто стремится и делает?
Прекрасно понимаю все возражения и их резонность. Да, кто-то «наймет» писателя для статистики. Ушлый проректор вспомнит о родном дяде, сорок лет тому назад опубликовавшем стихи в многотиражке «Бой за уголь». Кто-то из принятых писателей забьет на работу и примется писать очередной роман о тех, кто не понят и не принят во всех смыслах. Но в нашем случае важен даже точечный результат. Если раз в год выйдет роман о молодом поколении, основанный не на внимательном чтении Фейсбука[4], а на живом общении с теми, без кого раньше трудно было написать роман, – с прототипами, то можно считать программу сработавшей. Не говоря уже о молодых авторах, которые продолжат русскую литературу благодаря иноземному creative writing.
2021
Сердце, память и бетономешалка
Вокруг все чаще говорят о создании/реформировании большого писательского союза, вслед за которым грядут благие изменения в жизни и судьбах мастеров пера. Думаю, что оптимизм имеет основания. Откроются некоторые перспективы перед одаренными прозаиками, получат толику благ и признания поэты. Есть основания для светлого взгляда на будущее у таинственных драматургов. При этом многие уверены, что у последних и так все замечательно. Всегда есть повод припомнить коллеге постановку его пьесы в Тюменском кукольном театре в 1987 году. Опасения возникают только по поводу возможной судьбы критиков.
Именно критики являлись той частью советского писательского сообщества, судьбе которой трудно завидовать. Их тяжкое положение объяснялось рядом причин. Главная ловушка следовала из статуса советского писателя. Принятие в ряды ССП означало коллективное признание таланта или как минимум литературных способностей. Соответственно, советский критик был всегда ограничен в собственно критической функции. Он не мог прямо назвать автора или его творение бездарными.
Попытки бунта всегда пресекались, хулиганов били по рукам. В памяти всплывает история со статьей Владимира Бушина «Кушайте, друзья мои. Все ваше…», которая была напечатана в журнале «Москва» в 1979 году. Критик в ней разобрался с исторической прозой Булата Окуджавы. И сейчас статья читается прекрасно: она ладно сделана, точна и не оставляет сомнений по поводу таланта Окуджавы как исторического романиста. Бушин мгновенно прославился. Текст особо смаковался в писательских компаниях. Следующая статья литературного критика вышла в 1986 году. «Сведение личных счетов» и волюнтаризм не поощрялись.
Сложилась парадоксальная ситуация. Чем разбираемый текст был новее, тем статья о нем скучнее и унылее. И наоборот. Гремели работы Лотмана о Пушкине. Настоящим бестселлером могла стать книга о Шекспире. Издание же с подзаголовком «современная советская литература» прочно врастало в прилавки книжных магазинов и позже находило последний, тихий приют на библиотечных полках. Неудивительно, что по-настоящему любящие слово критики независимо от их мировоззрения (Вадим Кожинов, Бенедикт Сарнов, Олег Михайлов) вынужденно мигрировали в иные сферы литературы.
Нужно отдать должное нашим коллегам из прошлого. Все же в большинстве своем советские критики сами были людьми читающими, поэтому они симпатизировали – а самые совестливые и сочувствовали – любителям книг. Автор предупреждал читателя сразу. Взгляд на обложку – и протянутая рука потенциального поклонника советского Белинского замирала в воздухе. Был особый изыск – сочинить название сборника критических статей, сразу и бесповоротно отвращающее от его чтения. Возьмем базовое название: «Память сердца». Книга об исторических романах могла именоваться «Долгая память сердца». Если труд посвящался военной литературе, то рождался вариант «Суровая память сердца». Книга о современной проблемной прозе радовала не меньше: «Сердце обретает память».
В названиях приветствовались многоточия, намекающие на особое эмоциональное состояние критика, взволнованность от прочитанного, некоторую переполненность мыслями и чувствами. В аннотации пунктуационная имитация непосредственности отливалась в формулу «автор ведет живой, искренний разговор с читателем». В ту же кассу – фотография критика, задумчиво и со смыслом прикусившего дужку очков.
Название, аннотация и портрет гармонично сочетались с содержанием. Любимые жанры советских критиков – литературный портрет и обзорные статьи. Выбор первого объясняется биографическим моментом. Если поэты и прозаики могли прийти в литературу от сохи или станка, то в критики зачастую забривали доцентов филологических факультетов пединститутов. Как люди рациональные и рачительные, они использовали тексты своих диссертаций в качестве базы «литературной работы». Отсюда во многом мертвящий, замороженный язык их критических публикаций. Естественно, что, защитив диссертацию, допустим, по творчеству Федина, критики продолжали писать о нем, но уже для «широкого круга читателей». Тексты разных лет не единожды переписывались, переназывались. Ограниченность круга читателей играла в пользу критика. Чем незаметнее и тише пройдет публикация, тем больше шансов на вторичную переработку литературного продукта.
Тяга к написанию обзорных статей также объясняется прагматическими соображениями. Их объем регулировался не погружением в тему, а заказом редакции журнала или издательства. Всегда можно прибавить или убавить по желанию. Книг и публикаций на историко-революционную тему, гражданского мужества, морального самоопределения было в избытке. Тонкие эстеты разбирались с портретом современного лирического героя.
Содержание держалось на трех китах: пересказе в лучших традициях школьных изложений, цитировании, когда критик уставал от пересказа, и на необязательных рассуждениях. При пересказе хорошим тоном считалось задавать себе вопросы по поводу действий героя: «Считают ли показанные в романе строители ГЭС себя героями или полагают, что спасение бетономешалки – обычная часть их работы?» Это имеет отношение к упомянутому выше диалогу с читателем и фотографии с очками.
Рассуждения также опирались на цитаты. Не обязательно разбираемого автора. В дело шли работы основоположников марксизма, классиков. Либералы любили ссылаться на Маркса, Маркеса и Симонова. Почвенники уважали Достоевского, Гоголя и Тютчева. Пушкина цитировали все. Как таковое содержание высказывания критика волновало мало. Оно выступало в качестве отправной точки рассуждения. До конечного пункта читатель зачастую не добирался. Как и автор, в свободной последовательности размышляющий о судьбах современников, нравственности и связи поколений.
Собственно критическая часть должна была вытекать из хвалебной. Приветствовалась диалектика: «Образ Натальи настолько ярок, что на его фоне несколько теряются другие персонажи». Или: «К сожалению, писатель не рассказал о дальнейшей судьбе столь полюбившихся читателю героев». Кстати, на основании последнего замечания автор мог и превратить повесть в роман, а роман – в дилогию.
Клевещу ли я на наших предшественников? Не без того. Но считаю, что отстаиваю цеховой интерес. В очередной раз проявлю оптимизм. Надеюсь, здоровый. Я считаю, что современная русская критика переживает не худшие времена. Естественным и обычным делом оказалось говорить о книгах и авторах, исходя из своего желания, своим языком. Сильно потеряв в количестве, мы сохранили интерес и желание понять русскую литературу. И, быть может, потому мы сами до сих пор кому-то интересны. Заходить в новый союз необходимо. Но при этом обязательно сохраняя автономность и независимость, без которых нам гарантированно придется знакомиться с устройством и функционалом современных бетономешалок.
2022
О поиске читателя на звездолете
Иногда я участвую в обсуждении вопроса, который волнует почти каждого пишущего в нашей стране. Формулируется он просто и драматически: как найти своего читателя?
Братья по перу делятся опытом и соображениями. Первого всегда меньше по сравнению со вторым. Кто-то рассказывает о встречах с потенциальными читателями в ходе рейдов по библиотекам, другие ссылаются на призовые места в крепких региональных литературных премиях. Некоторые с интересом посматривают на литературные площадки типа Author.today. Но рано или поздно в ходе горького, непростого разговора звучит неизбежное: «Моя книга, ее качество говорят сами по себе. Этого достаточно – читатель оценит». После произнесенного все чувствуют некоторую приподнятость, торжественность в сочетании с неловкостью. Но для меня подобный пассаж почему-то рождает в сознании словосочетание «опрятная бедность». Объяснюсь.
Недавно я с большим интересом прочитал три книги петербургского прозаика Виктора Точинова. Автор давно и достойно работает в литературе, пишет романы и повести в таком непростом для отечественного писателя жанре как фантастические ужасы. Это тем ценнее, что обычно у нас получается вариант с инверсией – ужасная фантастика. Но три книги, которые привлекли мое внимание, имеют несколько иную природу и относятся к категории литературных расследований. Две из них: «Остров без Сокровищ» и «Одиссея капитана Флинта, или Остров без сокровищ-2» посвящены разбору «Острова сокровищ» Стивенсона, третья – «Дороги авантюристов, или Загадочная яхта лорда Гленарвана» – препарирует «Детей капитана Гранта» Жюля Верна. Писатель предлагает остроумные и неожиданные версии всем известных событий, переворачивающие привычные с детства образы героев и негодяев, рисует собственные сюжетные линии поверх классических текстов.
Самое показательное, что книги Точинова вызвали живейший интерес со стороны читателей. Они соглашались с интерпретатором или спорили с фальсификатором, посмевшим, поднявшим руку и т. д. Были и такие, кто, проявив изрядную эрудицию и наблюдательность, предложил собственные версии и трактовки. Я задумался. Книги Стивенсона и Верна написаны полтора века назад. И они известны уже семи-восьми молодым поколениям. Нет оснований полагать, что в ближайшей перспективе они исчезнут, канут в книжную Лету. Родители, желающие приобщать детей к слову, покупают свежее издание тех книг, которые они сами читали в детстве. А вот что делать современным детским авторам, пытающимся найти своего читателя? Что делать писателю как таковому?
Нам хорошо знакомо понятие «постмодернизм». Как правило, оно употребляется в книжной речи рядом с другими красивыми словами: после коннотации и перед дискурсом. Что есть на практике? Как происходит смена культурных эпох? И по каким признакам мы можем судить о произошедшем переходе?
Один из главных маркеров – обнуление предыдущей эпохи. Все, что было значимым и ценным, объявляется устаревшим и даже опасным. Средневековье начинается с отрицания античной культуры – языческой и греховной. Уже средневековый культурный код обнуляется Новым временем. На материале русской культуры это хорошо видно в формировании того, что мы называем «золотым веком». Если брать литературу, то она состоялась, утвердилась в сознании через отрицание русской литературы XVIII века. Чтобы Пушкин или Лермонтов приобрели статус классиков, нужно было вычеркнуть условного Сумарокова или Хераскова. Причем вычеркнуть буквально – из учебников и хрестоматий, освободив в них место для «новых классиков». Интересно, что в качестве «обнуления» использовалась ирония и осмеивание. Практически вся русская литература XVIII столетия символически отразилась в ставшей комической фигуре графа Хвостова – не просто графомане, но сгущенном образе литературы прошлого.
Постмодернизм ничего не вычеркивает. Он может «низводить» и пародировать. Но для этого необходимо знакомство с первоисточниками. В этом отношении самый классический писатель современности – Владимир Георгиевич Сорокин. Без Тургенева и Чернышевского он просто никто. В том же ряду Акунин, Водолазкин, Татьяна Толстая.
Но что это означает для рядового талантливого писателя наших дней? Между ним и читателем ряды книжных полок: магазинных и библиотечных. С каждым днем их все больше. Если представить, что в 00 часов все писатели прекратят свое служение слову, что изменится в жизни читателей? Ничего. Поклонники классического американского детектива, прочитав все романы Рекса Стаута, перейдут к освоению следующего недурного автора – Росса Макдональда. Эстеты могут по кругу перечитывать «Улисса», засыпать и просыпаться над Прустом.
Другое дело, что нарисованная фантастическая картина фатальна для самой литературы. Остановка означает прекращение ее жизни. Писать книги и говорить о книгах необходимо. При этом приходится молчаливо принимать за данность, что читателем современный писатель прирастать не будет. Редкие флуктуации – Яхина, «Пятьдесят оттенков» и прочие Цыпкины – лишь подчеркивают общую негативную тенденцию. В этой ситуации у современных писателей есть очевидный и неправильный выход. Объявить себя последними хранителями ценностей и скорбно отвернуться от современников, потерявших связь с областью Духа. Специфика литературы в том, что это не балет и не опера. Она не может превратиться в элитарную забаву, доступную немногим избранным.
На мой взгляд, одна из немногих возможных стратегий – наладить прямые контакты с аудиторией, знать в лицо, в прямом смысле слова, своего читателя. Не бояться этого. В одном из рассказов Роберта Шекли (еще восемь томов прекрасной прозы) поэт в мире будущего, странствуя по другим планетам, встретил своего единственного читателя. Подчеркну разницу: единственного, а не последнего. Когда-то этот рассказ считался фантастическим.
2022
О кукольных персонажах на пальце Стивена Кинга
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Первая колонна марширует, вторая колонна марширует… (нем.)
2
https://dzen.ru/a/X2ofNvUrehiBXf9k
3
Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.
4
Принадлежит компании Meta и признан экстремистским.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: