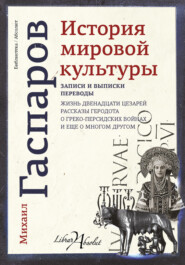По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Собрание сочинений в шести томах. Т. 5: Переводы. О переводах и переводчиках
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
классика, это хорошо для кроссворда.
Ничто так не тяготит,
как хорошее.
Скоро войдет в моду
топор под пальто.
Все говорят об избытке.
Наверно, снова
появятся избыточные люди.
Ежедневная дефлорация
под напором лозунгов.
Каждый день мы меньше себе понятны.
Ежедневные газеты еще выходят
ежедневно.
«Мир» – это такая комедия.
Уже не имеет смысла
эмигрировать.
Простые предложения
не станут проще.
Под ножом
Остроумие отыскало дело
для отчаявшихся:
оправдывайся.
А тринадцать букв
складываются в
невозможность.
Нередко мертвые
заправляют мертвым языком
права.
Ветер
перелетает через
белые их тени.
Я бесправен —
значит,
лжив.
На меди
Каменные нагроможденья —
штрих на штрих —
именовались городом.
Мое самое давнее впечатление,
пережитое
не мной:
счет песчинок,
сушащих чернила на моем
смертном приговоре;
барабаны, звучащие piano;
и в сиянии Град обетованный —
совсем рядом.
ЙОРГОС СЕФЕРИС
Последний день
Был пасмурный день. Никто ничего не решал.
Дул ветерок. «Это не грего, это сирокко», – сказал кто-то.
Худые кипарисы, распятые на склоне, и там за ними
серое море с лужами света.
Заморосило. Солдаты взяли к ноге.
«Это не грего, это сирокко», – и больше ни о чем ни слова.
Но мы знали: на рассвете нас не будет.
Ничего: ни женщины, пьющей сон возле нас,
ни памяти, что мы были когда-то мужчинами.
Завтра – ничего.
«Этот ветер напомнил весну, – сказала подруга,
шедшая рядом и глядя вдаль, – весну,
средь зимы налетевшую в закрытое море.
Так внезапно. Прошло столько лет. Но как мы умрем?»
Похоронный марш заплетался под мелким дождем.
Как умереть мужчине? Странно: никто не думал.
А кто думал, те словно вспоминали летописи
крестовых походов или битвы при Саламине.
И все-таки смерть: каждому своя и больше ничья —
это игра в жизнь.
Гас пасмурный день: никто ничего не решал.
На рассвете у нас ничего не будет: все предано, даже наши руки,
и женщины наши – рабыни у колодцев, и дети —
в каменоломнях.
Ничто так не тяготит,
как хорошее.
Скоро войдет в моду
топор под пальто.
Все говорят об избытке.
Наверно, снова
появятся избыточные люди.
Ежедневная дефлорация
под напором лозунгов.
Каждый день мы меньше себе понятны.
Ежедневные газеты еще выходят
ежедневно.
«Мир» – это такая комедия.
Уже не имеет смысла
эмигрировать.
Простые предложения
не станут проще.
Под ножом
Остроумие отыскало дело
для отчаявшихся:
оправдывайся.
А тринадцать букв
складываются в
невозможность.
Нередко мертвые
заправляют мертвым языком
права.
Ветер
перелетает через
белые их тени.
Я бесправен —
значит,
лжив.
На меди
Каменные нагроможденья —
штрих на штрих —
именовались городом.
Мое самое давнее впечатление,
пережитое
не мной:
счет песчинок,
сушащих чернила на моем
смертном приговоре;
барабаны, звучащие piano;
и в сиянии Град обетованный —
совсем рядом.
ЙОРГОС СЕФЕРИС
Последний день
Был пасмурный день. Никто ничего не решал.
Дул ветерок. «Это не грего, это сирокко», – сказал кто-то.
Худые кипарисы, распятые на склоне, и там за ними
серое море с лужами света.
Заморосило. Солдаты взяли к ноге.
«Это не грего, это сирокко», – и больше ни о чем ни слова.
Но мы знали: на рассвете нас не будет.
Ничего: ни женщины, пьющей сон возле нас,
ни памяти, что мы были когда-то мужчинами.
Завтра – ничего.
«Этот ветер напомнил весну, – сказала подруга,
шедшая рядом и глядя вдаль, – весну,
средь зимы налетевшую в закрытое море.
Так внезапно. Прошло столько лет. Но как мы умрем?»
Похоронный марш заплетался под мелким дождем.
Как умереть мужчине? Странно: никто не думал.
А кто думал, те словно вспоминали летописи
крестовых походов или битвы при Саламине.
И все-таки смерть: каждому своя и больше ничья —
это игра в жизнь.
Гас пасмурный день: никто ничего не решал.
На рассвете у нас ничего не будет: все предано, даже наши руки,
и женщины наши – рабыни у колодцев, и дети —
в каменоломнях.
Другие электронные книги автора Михаил Леонович Гаспаров
Другие аудиокниги автора Михаил Леонович Гаспаров
Занимательная Греция




 4.67
4.67