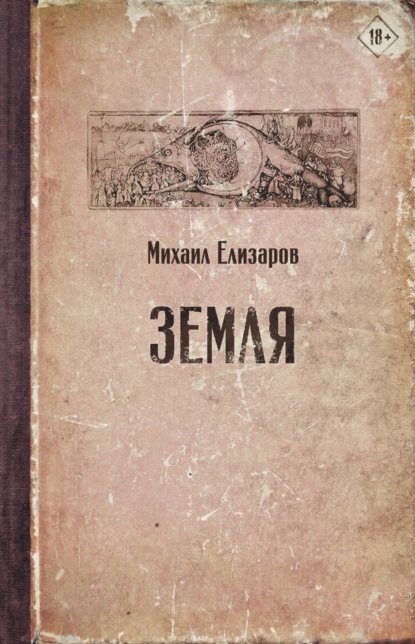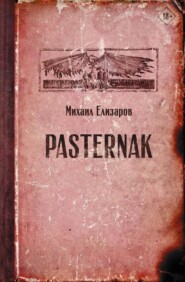По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Земля
Автор
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По купреиновскому примеру я, улёгшись на кровать, пересказал наш строительный катехизис про самоотверженный труд. Для наглядности взял две стальных ложки и заплёл их в косичку – что-то вроде демонстрации силы. Мы порядочно окрепли от нашей каждодневной работы и не упускали случая щегольнуть силовыми возможностями – согнуть гвоздь, разломить руками банку консервов.
В отличие от прежнего бригадира сам я работал до последнего дня. Товарищи мои частенько бывали недовольны таким “ударничеством”, но мне попросту было скучно сидеть в бытовке, тупо пялиться в телевизор или же играть в какую-нибудь игру в мобильном телефоне – на втором году службы нам негласно их вернули в пользование, хоть формально это не разрешалось.
Цыбин и Дронов справедливо полагали, что вкалывать должны только духи, а нарушение устоев чревато анархией, бунтом и развалом. Вспоминаю случай. Бригада наша работала на нулевом цикле, прокладывали траншею к фундаменту будущего цеха. И была там ещё дополнительная морока – выдержать правильный уклон для водопроводных труб. Стоял дождливый ноябрь, ребята быстро скисли. Из молодых особенно жалко мне было рядового Мокина – он выглядел самым тщедушным.
Цыбин и Дронов увлеклись просмотром ужастика про какую-то американскую нежить, а я пошёл к траншее, рассчитывая хотя бы подбодрить Мокина словами “взял и смог”. Чёртов доходяга ни на пядь не продвинулся за последний час, просто сидел скрючившись. Когда увидел меня, показал стёртые до крови, воспалённые ладони. Он выглядел таким жалким – мокрый, перепачканный, точно вылез из затопленной норы. Длинный хрящеватый нос зелено плесневел от постоянной простуды.
Лёша Купреинов цинично сказал бы ему: “Моё сердце разрывается от жалости к тебе…” Я же спрыгнул в траншею и взялся за лопату. Но только я поймал неспешную медитативную монотонность труда, как над нашими головами зазвучали голоса Цыбина и Дронова.
– Володя, не делай этого, пожалуйста… – с какими-то причитающими нотками произнёс Дронов.
Я сконфуженно посмотрел наверх, а Цыбин добавил с патетическим надрывом:
– Мока, ты хоть понял, чё происходит?! Бригадир тебе могилу роет!
– Володь, ну не надо… – опять скульнул Дронов. – Он исправится… Мока! – зашипел. – Хватай, мудила, лопату! Он не шутит! Прям тут и закопает! И никто не найдёт!.. Володь, не надо, ты прости его!..
До того сизый от холода Мокин просто растерянно хлюпал насморком, но после услышанного резво вздёрнулся, натянул рукавицы, выхватил у меня из рук лопату и, подвывая: “Я сам! Сам!..” – вклинился в глину. Про стёртые ладони и думать забыл. Как говорится, “взял и смог”.
Обратной дорогой к бытовке изверги довольные улыбались. Они специально не прихватили с собой простодушного Давидко, опасаясь, что тот не подыграет как надо. Признались, что для профилактики давно уже запугивали мной молодых, называя Кротычем. Вспоминали, разумеется, мой похоронный опыт, помножив его для солидности на десять.
– Да ты посмотри на себя! – ехидно сказал Цыбин. – Ты ж реально на маньяка похож! Крот-убийца!..
* * *
Конечно же, всегда задумывался, каким меня видят окружающие. В школе переживал из-за узкого, как мне казалось, лба. Или сдержанно радовался, что от матери унаследовал небольшие аккуратные уши. Но больше меня огорчало даже не само лицо, оно-то было нормальным, а его выражение – доброе и беспомощное. Я с седьмого класса, только меня перевезли в Москву, репетировал свирепые маски, гримасы для придания лицу суровости. Позже в Рыбнинске инерция этих ухищрений вызывала у одноклассников лишь улыбку, они говорили мне: “Вован, что случилось? Сделай портрет помягче…” А потом я и сам отошёл от московского стресса, успокоился.
В армии я снова стал следить за мимикой. Рож больше не корчил, старался придать лицу нейтральное, в моём представлении, выражение – каменное. Я украдкой изучал себя в щербатом овале зеркала, что висело над умывальником в нашем отхожем закутке, и не понимал, что такого пугающего разглядели Цыбин и остальные в моей внешности. Понятно, наголо стриженная голова мало кому добавит привлекательности. На темени ещё красовались два грозных шрама, при том что получены они были самым мирным путём, ещё в детстве, от качелей, но выглядели не хуже рубцов от лопаты…
Сам я на втором году службы отметил одну существенную перемену: в моём взгляде появилась тяжесть. Что-то давящее, словно бы эхо перекопанных кубометров. Очки совершенно не добавляли облику интеллигентности, а, наоборот, множили этот земляной вес.
Но, видимо, перед зеркалом я всё же как-то расслаблялся, отпускал лицо. А вот на групповой фотографии для очередного дембельского альбома я наконец-то разглядел себя в “нейтральном режиме”.
Образно говоря, я преображался, точно кот Леопольд после упаковки “Осмертина”. Удивительно, как весь мой добродушный набор из лба, бровей, глаз, щёк, скул, рта и подбородка мог складываться в такую неприятную комбинацию. Не суровое, не злое, а именно что мёртвое выражение лица.
Становилось понятно, почему так затравленно глядели на меня из траншеи новопришедшие ленивцы, когда я назидательно произносил над ними одну из любимых присказок Купреинова: “Зло правит, добро учит”.
*****
Не могу сказать, что первый год моей службы взял и пролетел. Он был медленным и вязким, как сланцевая глина, но поскольку состоял из будней, разнящихся только погодой, то уже ко второй половине оформился во что-то напоминающее занозистый деревянный брус, который нужно доволочь куда надо, бросить и пойти прочь, не оглядываясь. Случались, конечно, светлые и даже забавные эпизоды, но в общем преобладали однообразный труд, утомление и скука.
Если спросить меня, какой была первая солдатская зима, на ум придут вырытая мной могила в посёлке Мущино да саблезубые сосульки под крышей бытовки, которые Дронов, встав на табурет, сбивал шваброй, и они со звоном осыпались – хрустальные клыки белгородской зимы…
Вот дорогое сердцу летнее воспоминание. Июнь, вечер. Песчаное дно котлована похоже на морской берег. Мы закончили смену и организовали пирушку. Цыбин сбегал в магазинчик неподалёку, накупил сосисок, булок, каких-то сырных намазок, растворимых быстросупов в стаканчиках. С Давидко при помощи силикатных кирпичей и наших лопат мы оборудовали походно-стройбатовские лавки-жёрдочки. Дронов развел костёр из деревянных обломков, которые, когда прогорели, сделались похожими на сизые совиные крылья. Я был в тот вечер почти счастлив, хлебая из стаканчика густой, с сухариками, суп, макая сосиску прямо в банку с горчицей.
Пятым лишним был дед по фамилии Слюсаренко – из нашей же бригады землекопов. Я его недолюбливал. Он был рыбнинский. Я когда-то, заранее обрадовавшись, выпалил ему, что тоже из Рыбнинска, – наверное, надеялся на покровительство и дружбу. А Слюсаренко высокомерно заметил, что “земляку пиздянок дать, как дома побывать”. У меня вспотела от волнения спина, пока мы несколько секунд мерились взглядами. Затем Слюсаренко лениво отвёл глаза. После этого мы почти не разговаривали, будто не замечали друг друга.
Слюсаренко, как старослужащий, понятно, не вкалывал вместе с нами, а просто дослуживал. Прорабы на объектах водились понимающие – лишь бы работа была сделана нормально и в срок, поэтому без вопросов ставили ему положенные восемь часов в расчётный листок, а причитающуюся норму мы выполняли сами.
Стянув сапоги, портянки и носки, Слюсаренко, скрючившись, увлечённо цокал крошечными щипчиками над окаменевшими, как речные ракушки, ногтями своих больших раскоряченных ступней, но этот солдатский педикюр почему-то не вызывал никакого отвращения и даже не отбивал аппетита.
Мы пели с наших жёрдочек про прекрасное далёко, только переиначенное:
– Теперь ебёт глубо?-о-ко! Широ?ко и глубо?ко, туда-а и сюда-а!.. – и небо над песчаным котлованом было таким оглушительно-синим, таким ласковым…
– Уф-фу! – неподалёку отдувался Слюсаренко, шевелил пальцами ног. – В натуре, хлопцы, будто вторые сапоги снял!.. Ништячок! – улыбался песне. – Ебёт глубо?ко! Цыба, слова потом запишешь?
Слюсаренко вовсю готовился к дембельскому альбому и жаловал любую зарифмованную матерщину: о носках солдата из стройбата, которые пахнут заебато, законах Ома: “Здесь нас ебут, а девок дома”, собирал афоризмы о бессмысленности и однообразии службы: “Работа для нас праздник, а в праздники мы не работаем”, не забывал, конечно, и желчные присказки о бабьем непостоянстве: “Солдат, помни, ты охраняешь сон того парня, который спит с твоей девушкой…”
Армейский фольклор женоцентричен: “Девушка – не электричка: не догоняй, будет другая”. “Девушка как костёр: палку не кинешь – погаснет”. Сатанинский гаолян “дембельской сказки” с незапамятных времён навевал сны про “дом родной и девку с пышною пиздой” – пусть снятся!
Одноклассницы относились ко мне, в общем-то, неплохо. Была одна, Марина Алёхина, довольно миленькая. С ней перешучивались на уроках, прогулялись пару раз после занятий, но ни в какие отношения это не оформилось. Последний год перед армией я удовлетворялся тем, что нарыскал в интернете коротенькие, на пятнадцать секунд, порноролики, запечатлевающие, как правило, финал соития, с брызгами и воплями. Таких видеоналожниц у меня имелся целый гарем весом не меньше гигабайта.
Школа закончилась, затея с институтом бесславно провалилась, я загремел в стройбат. И по факту не то что любить и ждать, а даже обманывать меня в Рыбнинске было некому. Я, конечно, сочинял напропалую, мол, была “пышная” подруга, но поступила как все бабы, нашла себе другого – солдатская доля…
Осенью я получил десятидневный отпуск и отправился домой с твёрдой решимостью оттянуться по-солдатски, ни в чём себе не отказывая. Но уже с самого начала всё пошло не так, как я огненно навоображал себе в поезде.
На сутки задержался в Москве. Мне действительно обрадовались мать, маленький Прохор и несостоявшийся отчим Тупицын. Он обстоятельно расспрашивал о службе, повторяя, что я “возмужал”.
Мать трогала мои огрубевшие ладони, качала головой:
– Вовка! Как у шофёра! – а я и сам видел, что там уже не кожа, а какой-то дублёный пергамент, об который при желании можно безболезненно тушить окурки.
Погостив у Тупицыных, поехал в Рыбнинск. Теплилась надежда, что наша однушка до сих пор пустует – со слов отца последний жилец съехал оттуда пару месяцев назад. Но когда я приехал, выяснилось, что отец сам туда заселился, потому что у него нарисовался какой-то романтический интерес по имени Диана – так с улыбкой сказала бабушка.
Мы очень соскучились друг по другу и проговорили, должно быть, несколько часов кряду. К вечеру приехал отец, и я по второму разу, но уже с купюрами, пересказал ему все нехитрые армейские события. Перед уходом он вытащил из кармана часы “Ракета” и сказал, что на время отпуска моим временем снова буду заниматься я.
В тот же день я позвонил Толику Якушеву. С простецкой радостью потормошил его: мол, когда ж по бабам, когда по студенткам? Уж познакомь со своими одногруппницами школьного друга, ныне сержанта Кротышева!
Толик похохатывал, но говорил исключительно о грядущей сессии, зачётах, экзаменах. То есть совершенно не собирался отвлекаться на мой досуг. Под конец, правда, пообещал, что на выходные что-нибудь придумает.
На выходные! Через пять дней! Он будто не понимал, что у меня всего неделя времени, а потом обратно в часть, к студёным котлованам и промозглым траншеям!
Дела, конечно, нашлись. Я помог бабушке прибраться в доме, починил обвалившиеся антресоли. Мы съездили на кладбище – как раз была пятая годовщина смерти дедушки. Я привел могилу в порядок, убрал пожухлую траву и листья.
Пару дней я просто отсыпался, смотрел телевизор, ну, и, конечно, не забывал посещать свой порногарем. И, наконец, наступила долгожданная суббота. Я почему-то думал, что вечеринка будет у Толика дома – мы раньше всегда у него собирались. Рассчитывал, что заглянет в гости брат Толика – Семён, и я подмигну ему:
– Помнишь, Сём, ты говорил: “Кто служил в стройбате, тот смеётся в драке!”, – и он, конечно же, вспомнит. И я тогда скажу с улыбкой: – Это правда! – и приглашённые девушки посмотрят на меня, как на ветерана.
В итоге всё свелось к походу в ночной клуб “Флай” – запланированная вечеринка в честь дня рождения какого-то Гошана, куда Толик как бы из вежливости позвал и меня.
Новые приятели Толика пришли со своими подругами. Когда я тихо высказал ему:
– Толь, ты ж обещал, – он ответил: – Да оглянись! Полный зал тёлок, знакомься с любой!..
Под раскатистое техно в клубе отплясывало, может, с полсотни девиц, но в таком шуме даже поговорить было сложно, всё мелькало, искрило – как тут познакомиться?
Я, к своему стыду, понял, что неподходяще одет. А ещё этот Гошан с улыбочкой оглядел меня:
В отличие от прежнего бригадира сам я работал до последнего дня. Товарищи мои частенько бывали недовольны таким “ударничеством”, но мне попросту было скучно сидеть в бытовке, тупо пялиться в телевизор или же играть в какую-нибудь игру в мобильном телефоне – на втором году службы нам негласно их вернули в пользование, хоть формально это не разрешалось.
Цыбин и Дронов справедливо полагали, что вкалывать должны только духи, а нарушение устоев чревато анархией, бунтом и развалом. Вспоминаю случай. Бригада наша работала на нулевом цикле, прокладывали траншею к фундаменту будущего цеха. И была там ещё дополнительная морока – выдержать правильный уклон для водопроводных труб. Стоял дождливый ноябрь, ребята быстро скисли. Из молодых особенно жалко мне было рядового Мокина – он выглядел самым тщедушным.
Цыбин и Дронов увлеклись просмотром ужастика про какую-то американскую нежить, а я пошёл к траншее, рассчитывая хотя бы подбодрить Мокина словами “взял и смог”. Чёртов доходяга ни на пядь не продвинулся за последний час, просто сидел скрючившись. Когда увидел меня, показал стёртые до крови, воспалённые ладони. Он выглядел таким жалким – мокрый, перепачканный, точно вылез из затопленной норы. Длинный хрящеватый нос зелено плесневел от постоянной простуды.
Лёша Купреинов цинично сказал бы ему: “Моё сердце разрывается от жалости к тебе…” Я же спрыгнул в траншею и взялся за лопату. Но только я поймал неспешную медитативную монотонность труда, как над нашими головами зазвучали голоса Цыбина и Дронова.
– Володя, не делай этого, пожалуйста… – с какими-то причитающими нотками произнёс Дронов.
Я сконфуженно посмотрел наверх, а Цыбин добавил с патетическим надрывом:
– Мока, ты хоть понял, чё происходит?! Бригадир тебе могилу роет!
– Володь, ну не надо… – опять скульнул Дронов. – Он исправится… Мока! – зашипел. – Хватай, мудила, лопату! Он не шутит! Прям тут и закопает! И никто не найдёт!.. Володь, не надо, ты прости его!..
До того сизый от холода Мокин просто растерянно хлюпал насморком, но после услышанного резво вздёрнулся, натянул рукавицы, выхватил у меня из рук лопату и, подвывая: “Я сам! Сам!..” – вклинился в глину. Про стёртые ладони и думать забыл. Как говорится, “взял и смог”.
Обратной дорогой к бытовке изверги довольные улыбались. Они специально не прихватили с собой простодушного Давидко, опасаясь, что тот не подыграет как надо. Признались, что для профилактики давно уже запугивали мной молодых, называя Кротычем. Вспоминали, разумеется, мой похоронный опыт, помножив его для солидности на десять.
– Да ты посмотри на себя! – ехидно сказал Цыбин. – Ты ж реально на маньяка похож! Крот-убийца!..
* * *
Конечно же, всегда задумывался, каким меня видят окружающие. В школе переживал из-за узкого, как мне казалось, лба. Или сдержанно радовался, что от матери унаследовал небольшие аккуратные уши. Но больше меня огорчало даже не само лицо, оно-то было нормальным, а его выражение – доброе и беспомощное. Я с седьмого класса, только меня перевезли в Москву, репетировал свирепые маски, гримасы для придания лицу суровости. Позже в Рыбнинске инерция этих ухищрений вызывала у одноклассников лишь улыбку, они говорили мне: “Вован, что случилось? Сделай портрет помягче…” А потом я и сам отошёл от московского стресса, успокоился.
В армии я снова стал следить за мимикой. Рож больше не корчил, старался придать лицу нейтральное, в моём представлении, выражение – каменное. Я украдкой изучал себя в щербатом овале зеркала, что висело над умывальником в нашем отхожем закутке, и не понимал, что такого пугающего разглядели Цыбин и остальные в моей внешности. Понятно, наголо стриженная голова мало кому добавит привлекательности. На темени ещё красовались два грозных шрама, при том что получены они были самым мирным путём, ещё в детстве, от качелей, но выглядели не хуже рубцов от лопаты…
Сам я на втором году службы отметил одну существенную перемену: в моём взгляде появилась тяжесть. Что-то давящее, словно бы эхо перекопанных кубометров. Очки совершенно не добавляли облику интеллигентности, а, наоборот, множили этот земляной вес.
Но, видимо, перед зеркалом я всё же как-то расслаблялся, отпускал лицо. А вот на групповой фотографии для очередного дембельского альбома я наконец-то разглядел себя в “нейтральном режиме”.
Образно говоря, я преображался, точно кот Леопольд после упаковки “Осмертина”. Удивительно, как весь мой добродушный набор из лба, бровей, глаз, щёк, скул, рта и подбородка мог складываться в такую неприятную комбинацию. Не суровое, не злое, а именно что мёртвое выражение лица.
Становилось понятно, почему так затравленно глядели на меня из траншеи новопришедшие ленивцы, когда я назидательно произносил над ними одну из любимых присказок Купреинова: “Зло правит, добро учит”.
*****
Не могу сказать, что первый год моей службы взял и пролетел. Он был медленным и вязким, как сланцевая глина, но поскольку состоял из будней, разнящихся только погодой, то уже ко второй половине оформился во что-то напоминающее занозистый деревянный брус, который нужно доволочь куда надо, бросить и пойти прочь, не оглядываясь. Случались, конечно, светлые и даже забавные эпизоды, но в общем преобладали однообразный труд, утомление и скука.
Если спросить меня, какой была первая солдатская зима, на ум придут вырытая мной могила в посёлке Мущино да саблезубые сосульки под крышей бытовки, которые Дронов, встав на табурет, сбивал шваброй, и они со звоном осыпались – хрустальные клыки белгородской зимы…
Вот дорогое сердцу летнее воспоминание. Июнь, вечер. Песчаное дно котлована похоже на морской берег. Мы закончили смену и организовали пирушку. Цыбин сбегал в магазинчик неподалёку, накупил сосисок, булок, каких-то сырных намазок, растворимых быстросупов в стаканчиках. С Давидко при помощи силикатных кирпичей и наших лопат мы оборудовали походно-стройбатовские лавки-жёрдочки. Дронов развел костёр из деревянных обломков, которые, когда прогорели, сделались похожими на сизые совиные крылья. Я был в тот вечер почти счастлив, хлебая из стаканчика густой, с сухариками, суп, макая сосиску прямо в банку с горчицей.
Пятым лишним был дед по фамилии Слюсаренко – из нашей же бригады землекопов. Я его недолюбливал. Он был рыбнинский. Я когда-то, заранее обрадовавшись, выпалил ему, что тоже из Рыбнинска, – наверное, надеялся на покровительство и дружбу. А Слюсаренко высокомерно заметил, что “земляку пиздянок дать, как дома побывать”. У меня вспотела от волнения спина, пока мы несколько секунд мерились взглядами. Затем Слюсаренко лениво отвёл глаза. После этого мы почти не разговаривали, будто не замечали друг друга.
Слюсаренко, как старослужащий, понятно, не вкалывал вместе с нами, а просто дослуживал. Прорабы на объектах водились понимающие – лишь бы работа была сделана нормально и в срок, поэтому без вопросов ставили ему положенные восемь часов в расчётный листок, а причитающуюся норму мы выполняли сами.
Стянув сапоги, портянки и носки, Слюсаренко, скрючившись, увлечённо цокал крошечными щипчиками над окаменевшими, как речные ракушки, ногтями своих больших раскоряченных ступней, но этот солдатский педикюр почему-то не вызывал никакого отвращения и даже не отбивал аппетита.
Мы пели с наших жёрдочек про прекрасное далёко, только переиначенное:
– Теперь ебёт глубо?-о-ко! Широ?ко и глубо?ко, туда-а и сюда-а!.. – и небо над песчаным котлованом было таким оглушительно-синим, таким ласковым…
– Уф-фу! – неподалёку отдувался Слюсаренко, шевелил пальцами ног. – В натуре, хлопцы, будто вторые сапоги снял!.. Ништячок! – улыбался песне. – Ебёт глубо?ко! Цыба, слова потом запишешь?
Слюсаренко вовсю готовился к дембельскому альбому и жаловал любую зарифмованную матерщину: о носках солдата из стройбата, которые пахнут заебато, законах Ома: “Здесь нас ебут, а девок дома”, собирал афоризмы о бессмысленности и однообразии службы: “Работа для нас праздник, а в праздники мы не работаем”, не забывал, конечно, и желчные присказки о бабьем непостоянстве: “Солдат, помни, ты охраняешь сон того парня, который спит с твоей девушкой…”
Армейский фольклор женоцентричен: “Девушка – не электричка: не догоняй, будет другая”. “Девушка как костёр: палку не кинешь – погаснет”. Сатанинский гаолян “дембельской сказки” с незапамятных времён навевал сны про “дом родной и девку с пышною пиздой” – пусть снятся!
Одноклассницы относились ко мне, в общем-то, неплохо. Была одна, Марина Алёхина, довольно миленькая. С ней перешучивались на уроках, прогулялись пару раз после занятий, но ни в какие отношения это не оформилось. Последний год перед армией я удовлетворялся тем, что нарыскал в интернете коротенькие, на пятнадцать секунд, порноролики, запечатлевающие, как правило, финал соития, с брызгами и воплями. Таких видеоналожниц у меня имелся целый гарем весом не меньше гигабайта.
Школа закончилась, затея с институтом бесславно провалилась, я загремел в стройбат. И по факту не то что любить и ждать, а даже обманывать меня в Рыбнинске было некому. Я, конечно, сочинял напропалую, мол, была “пышная” подруга, но поступила как все бабы, нашла себе другого – солдатская доля…
Осенью я получил десятидневный отпуск и отправился домой с твёрдой решимостью оттянуться по-солдатски, ни в чём себе не отказывая. Но уже с самого начала всё пошло не так, как я огненно навоображал себе в поезде.
На сутки задержался в Москве. Мне действительно обрадовались мать, маленький Прохор и несостоявшийся отчим Тупицын. Он обстоятельно расспрашивал о службе, повторяя, что я “возмужал”.
Мать трогала мои огрубевшие ладони, качала головой:
– Вовка! Как у шофёра! – а я и сам видел, что там уже не кожа, а какой-то дублёный пергамент, об который при желании можно безболезненно тушить окурки.
Погостив у Тупицыных, поехал в Рыбнинск. Теплилась надежда, что наша однушка до сих пор пустует – со слов отца последний жилец съехал оттуда пару месяцев назад. Но когда я приехал, выяснилось, что отец сам туда заселился, потому что у него нарисовался какой-то романтический интерес по имени Диана – так с улыбкой сказала бабушка.
Мы очень соскучились друг по другу и проговорили, должно быть, несколько часов кряду. К вечеру приехал отец, и я по второму разу, но уже с купюрами, пересказал ему все нехитрые армейские события. Перед уходом он вытащил из кармана часы “Ракета” и сказал, что на время отпуска моим временем снова буду заниматься я.
В тот же день я позвонил Толику Якушеву. С простецкой радостью потормошил его: мол, когда ж по бабам, когда по студенткам? Уж познакомь со своими одногруппницами школьного друга, ныне сержанта Кротышева!
Толик похохатывал, но говорил исключительно о грядущей сессии, зачётах, экзаменах. То есть совершенно не собирался отвлекаться на мой досуг. Под конец, правда, пообещал, что на выходные что-нибудь придумает.
На выходные! Через пять дней! Он будто не понимал, что у меня всего неделя времени, а потом обратно в часть, к студёным котлованам и промозглым траншеям!
Дела, конечно, нашлись. Я помог бабушке прибраться в доме, починил обвалившиеся антресоли. Мы съездили на кладбище – как раз была пятая годовщина смерти дедушки. Я привел могилу в порядок, убрал пожухлую траву и листья.
Пару дней я просто отсыпался, смотрел телевизор, ну, и, конечно, не забывал посещать свой порногарем. И, наконец, наступила долгожданная суббота. Я почему-то думал, что вечеринка будет у Толика дома – мы раньше всегда у него собирались. Рассчитывал, что заглянет в гости брат Толика – Семён, и я подмигну ему:
– Помнишь, Сём, ты говорил: “Кто служил в стройбате, тот смеётся в драке!”, – и он, конечно же, вспомнит. И я тогда скажу с улыбкой: – Это правда! – и приглашённые девушки посмотрят на меня, как на ветерана.
В итоге всё свелось к походу в ночной клуб “Флай” – запланированная вечеринка в честь дня рождения какого-то Гошана, куда Толик как бы из вежливости позвал и меня.
Новые приятели Толика пришли со своими подругами. Когда я тихо высказал ему:
– Толь, ты ж обещал, – он ответил: – Да оглянись! Полный зал тёлок, знакомься с любой!..
Под раскатистое техно в клубе отплясывало, может, с полсотни девиц, но в таком шуме даже поговорить было сложно, всё мелькало, искрило – как тут познакомиться?
Я, к своему стыду, понял, что неподходяще одет. А ещё этот Гошан с улыбочкой оглядел меня: