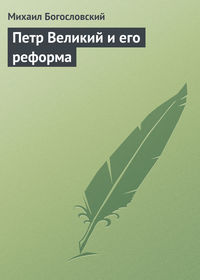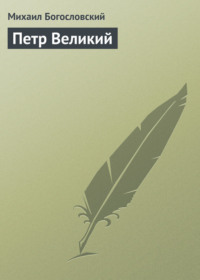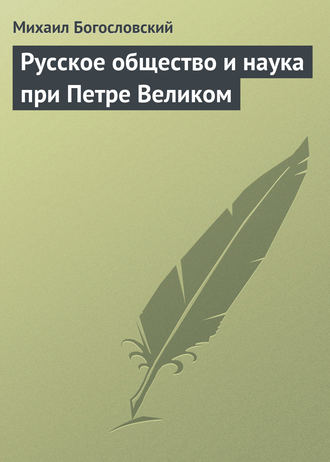
Русское общество и наука при Петре Великом

М. М. Богословский
Русское общество и наука при Петре Великом
I
В речи, которою я буду иметь честь занять Ваше благосклонное внимание на сегодняшнем торжественном собрании, да позволено мне будет вновь вернуться к историческим воспоминаниям, связанным с недавно отзвучавшими юбилейными торжествами по поводу истекшего в 1925 году двухсотлетия существования русской Академии наук. Вспоминающая мысль наша невольно стремится пробежать через эти двести лет, отделяющие нас от момента открытия Академии. Но чем дальше уходит она в прошлое, тем в более темную стихию она погружается, и для того, чтобы ориентироваться в смутных образах былого, чтобы разглядеть отжитую жизнь, чтобы различить черты давно сошедших со сцены и покоящихся сном смерти исторических деятелей, а тем более, чтобы разгадать когда-то занимавшие их идеи, воодушевлявшие их чувства и увлекавшие стремления, нашей вспоминающей мысли не обойтись без помощи света, даваемого историческим исследованием. Историческое исследование – это как бы некоторый фонарь – удивительный, прямо магический инструмент в руках историка: он обладает способностью освещать и как бы воскрешать далекое прошлое. Позвольте сегодня посветить Вам этим фонарем и бросить его луч в интересующее нас прошедшее, насколько это будет в моих слабых силах.
Вспоминая открытие Академии наук в России, мы должны начать речь очень издалека. Эпоха Возрождения наук в XV и XVI веках дала толчок тому европейскому научному движению, одним из проявлений которого было основание Академии наук и у нас. Возрождение освободило человеческий разум, поставило его на неведомую Средним векам высоту, дало ему простор и уверенность, сделало его всеобъясняющим и всенаправляющим началом, словом, создало то движение в истории мысли, которое принято называть Рационализмом, и которое оказалось господствующим в XVII и XVIII веках. Вернув человеческую мысль к уцелевшим остаткам античной литературы и пробудив к ним вкус и интерес, Возрождение в этой литературе нашло добытые древностью сокровища научного знания и, так как человеческая мысль не может оставаться в состоянии спокойного пребывания, а непрестанно движется, то она тотчас же начала продолжать научную работу древних, как только к ней прикоснулась, усваивая ее принципы. Поставив на место «Божественного откровения» силу человеческого разума, Возрождение вместо священного Писания источником знания сделало науку: научное мышление и научные методы. Самая религия подверглась рационалистическому влиянию, произошла Реформация, явился протестантизм. Философия перестала быть служанкой теологии, какою она была в Средние века, и получила самостоятельность. Декарт, Гроций, Гоббс, Локк, Лейбниц, Вольф – эти имена знаменуют расцвет и успехи рационалистической философии. В то же время расцвет Рационализма тесно связан и неразрывно переплетается с успехами научного знания. Более всего эти успехи поразительны в математике и математических науках: достаточно вспомнить Лейбница с его открытиями в области чистой математики, открытия закона тяготения и оптических законов, сделанные Ньютоном, и открытия Гюйгенса в механике. За математикой следовало естествознание, вооруженное теперь новым методом – опытом. На рационалистических началах перестраиваются политические и юридические науки, история и философия. Научное движение, освобожденное от связывавших его средневековых пут, идет полным размахом. Та же эпоха Возрождения дает начало и новым средствам или новым организациям научной работы. В Средние века движение научной мысли сосредоточивалось в особых специальных цехах, какими были средневековые университеты. Но этих средств оказывалось теперь недостаточно, они уже не удовлетворяют новым потребностям и запросам, они кажутся слишком проникнутыми схоластикой, враждебно относившейся к новым научным направлениям. Вот почему с эпохи Возрождения в Италии, а затем позже, в особенности со второй половины XVII века, и в Северной Европе стали появляться нового типа свободные научные ассоциации, не связанные многовековыми традициями: ученые общества и академии наук. Так, в начале 1660-х годов было основано Королевское общество в Лондоне, в 1666 году получила начало Академия наук в Париже, по образцу которой стали возникать академии в провинциальных французских городах. В самом начале XVIII века была открыта Академия наук в Берлине, по инициативе и при деятельном участии Лейбница. Тот же Лейбниц был вдохновителем мысли об основании Академии наук в России. Осуществлением этой мысли и было учреждение нашей Академии наук в 1724 – 25 годах. Как и многие другие нововведения Петра Великого, Академия оказалась жизнеспособным и долговечным учреждением, внутреннюю прочность которого ясно обнаружил его недавний юбилей.
II
Причину прочности учреждений Петра Великого надо видеть в том, что они шли навстречу потребностям времени и, очевидно, удовлетворяли этим потребностям в течение целых двух столетий. Но неужели такое же положение можно высказать и относительно Академии наук? Неужели создание этого высшего научного органа также шло навстречу потребностям времени? Как можно разглядеть такие потребности в отсталой некультурной стране, какою принято изображать Московское государство? Не было ли учреждение Академии прихотью самодержца, придворной затеей, осуществленною в подражание европейским государям лишь для придания блеска своему двору? Если бы все это было так, если бы Академия была только придворной затеей, то, очевидно, она не просуществовала бы так долго. Надо согласиться с тем, что Московское государство перед реформой Петра отставало во многих отношениях и в особенности в научном знании от опередивших его европейских народов. Но и при такой отсталости русский народ таил в себе не задатки разложения и упадка, а силу дальнейшего развития и роста. Угадать и как-то интуитивно, непосредственно постигнуть эти таящиеся в народе силы в их скрытом состоянии есть способность исключительно даровитого ума. Петр шел навстречу этим силам, развернуться которым во всю ширь было суждено в будущем. Он вообще строил свои сооружения для неблизкого будущего.
Впрочем, и Московское государство не осталось чуждым тем рационалистическим веяниям, которыми так отличался XVII век в Европе. Идеи не сдерживаются пограничными барьерами и таможенными заставами; они передаются как бы какими-то воздушными волнами и обладают способностью заражать умы, отстоящие на далеких расстояниях друг от друга. Они начинают проникать к нам с эпохи Возрождения и Реформации, сначала в виде протестантских учений или религиозного вольнодумства. Позже приходят в Москву рационалистические идеи столь пышным цветом расцветшей на Западе политической философии; вопросы о происхождении государства, о его целях и задачах, о значении государственной власти, о взаимоотношениях власти и подданных и тому подобные решаются в духе рационалистической философии. Идеи Гоббса и Локка, Гроция и Пуффендорфа не только становятся известными, но и делаются руководящими принципами. Чтобы объяснить, например, новый изданный в 1722 году закон о престолонаследии и чтобы убедить русское общество в разумности и пользе этого закона, Феофан Прокопович, – церковный деятель протестантствующего направления и публицист, к перу которого Петр постоянно прибегает для объяснения своих дел народным массам, – Феофан Прокопович пишет обширный трактат со ссылками на всех корифеев современной ему западноевропейской политической философии. Эти имена были известны тогда, конечно, очень небольшому кругу лиц в России: но их идеи владеют умами уже гораздо более широкого круга, и сам Петр всецело проникнут рационалистическим духом своего времени. Он ломает старый порядок, державшийся исторической традицией, восходящей своими корнями к глубине веков и потому не всегда поддающейся разумному объяснению, и строит новый порядок, основанный на разуме. Он борется «с глупостью и недознанием невежд» и рационалистически во имя разума стремится разрешать разнообразные крупные и мелкие ежедневно возникающие перед ним вопросы, начиная от государственного строя и высших соображений внешней и внутренней политики и кончая мелочами частного житейского обихода подданных, регулируемого государством на разумных основаниях. Вместе с этим рационалистическим духом в нем в течение всей его жизни растет и развивается стремление к добытому человеческим разумом научному знанию, уважение к науке и ясное сознание ее пользы и необходимости. Необычайная любознательность проявляется у него еще в раннем детстве: он задает вопросы, для разрешения которых приходится отыскивать человека, обладающего знанием. Всем, конечно, хорошо известны рассказы о том, как вследствие переменившихся политических событий первоначальное официальное и планомерное образование Петра прервалось, и как затем он по собственной инициативе принялся за самообразование, сам под руководством знающего немца сел за геометрию и тригонометрию, чтобы уметь пользоваться астролябией, а страсть к кораблям и плаванию вызвала потребность в разнообразных отраслях точного знания, связанного с навигацией. С тех пор решительно на каждом шагу своей кипучей деятельности он ощущает необходимость и силу знания. Чтобы строить корабли на Переяславском озере и плавать на них, руководясь компасом, нужен знающий немец; чтобы наводить артиллерийские орудия и рассчитывать полет ядра, требуется вооруженный математическими знаниями немец; чтобы устроить столь им любимую «огненную потеху» – фейерверк, следует обращаться также к знающему немцу. Начата постройка в Воронеже большого Азовского флота, предназначенного плавать по Черному морю и нанести решительный удар Турции, с которой шла тогда война. Для постройки кораблей отведены были в окрестностях Воронежа обширные леса, и для распределения лесных площадей послан был московский дворянин, человек из того чина, который, живя в Москве при дворе, должен был быть способен на все руки и уметь делать всякое дело, на которое его ни пошлют. Но дело было слишком новое, небывалое. Дворянин кое-как справился с задачей; но уже ясно почувствовалась потребность в специальных таксаторских знаниях. Окружающие родные, близкие и преданные люди, может быть, и умудренные житейским опытом, ничего не знают в тех новых областях, которыми Петр заинтересовался и которыми он увлекается. Он принужден отыскивать и приближать к себе знающих людей, и отсюда тяготение его к иностранцам и столь близкая дружба с ними. Он с юности всем своим существом ощущает силу знания и потому со всею страстностью своей натуры стремится к нему. Нарушая всякие традиции и смелой рукою ломая сдавливавший носителей верховной власти придворный этикет, он из душной и тесной обстановки Кремлевского терема вырвался на простор европейского просвещения и летит за границу, чтобы утолить все более овладевающую им жажду знания. Это чувство жажды, однако, все возрастает, и мы можем следить за его ростом при соприкосновении Петра с западноевропейским миром.
III
Петр отправился за границу весной 1697 года инкогнито в составе великого посольства с двумя целями, из которых первая была узко-практическая, вторая – более широкая и общая. Во-первых, он стремился выучиться кораблестроительному искусству, во-вторых, ему вообще хотелось взглянуть на западноевропейский мир и воочию непосредственно с ним познакомиться. Курс кораблестроения он, приехавши в Голландию, стал проходить с топором в руке сначала на Саардамских верфях, а потом на верфи Ост-Индской торговой компании в Амстердаме. Но стремление к приобретению знания корабельного дела не вытеснило в нем стремлений к другим разнообразным областям и отраслям знания, и ограда Ост-Индского «двора», где он так прилежно плотничал, не замкнула в себе его интересов и не сузила широты его кругозора. Он сводит личное знакомство с западноевропейскими учеными и любознательно посещает и осматривает научные учреждения. Он очень подружился с знаменитым амстердамским бургомистром Николаем Корнелием Витзеном, побывавшим в Московском государстве в 1664 году, автором обширного географического и этнографического труда «О странах северной и восточной Азии и Европы». Известный в то время анатом, изобретатель метода сохранения анатомических препаратов посредством инъекции, доктор Рюйш показывает ему свой анатомический музей. Особенное впечатление производили на него сохранившиеся трупы и препараты. Как говорит предание, при осмотре музея Рюйша он, «остановившись у трупика ребенка, сохранившегося так хорошо, что, казалось, ребенок еще жив, и на лице его как бы играет еще улыбка, – не мог удержаться, чтобы не поцеловать малютку»[1]. Несколько раз затем он посещал музей Рюйша. К науке о строении человеческого тела Петр почувствовал какое-то особое пристрастие; видимо, она его очень сильно поразила. Русскому доктору Петру Посникову, бывшему с ним в Англии, он поручает купить какую-то «анатоменную книгу», вероятно, анатомический атлас, а по возвращении из-за границы домой, он устраивает в Москве курс лекций для московских бояр по анатомии с демонстрациями на трупах. «Медик Цоппот, – читаем в дневнике секретаря находившегося тогда в Москве цесарского посольства Корба под 28 января 1699 года, – начал анатомические упражнения в присутствии царя и многих бояр, которых побудил к этому царский приказ, хотя такие упражнения и были им противны». Можно себе представить, с каким удовольствием смотрели московские бояре на эти упражнения на трупах. Когда он летом 1699 года находился в Азове, разразившейся грозой убиты были двое часовых, стоявших неподалеку от его двора. Он не только подверг их трупы тщательному наружному осмотру, наблюдая действие молнии, но и приказал анатомировать их[2]. По связи, может быть, с влечением к анатомии Петр стал интересоваться хирургией, которая, по определению старых медиков, есть не что иное, как anatomia pathologica in corpore vivo [Патологоанатомия в живом теле (лат.)], – и хотел брать уроки этого искусства. Позже он считал себя сведущим в хирургии и сам делал, не всегда, впрочем, удачные операции.
В Амстердаме же Петр знакомится с богатыми ботаническими и зоологическими коллекциями, устроенными амстердамским городским управлением. 7 сентября великое посольство и в его составе Петр, по преданию в сопровождении того же профессора Рюйша, посетило амстердамский ботанический сад, где представлены были экземпляры индийской флоры, и состоявший при саде музей с редкостными образцами морской фауны экзотических владений Голландии. «Сентября в 7 день, – читаем в Статейном списке посольства, – великие и полномочные послы были в Амстрадаме с приставы своими и гуляли в огороде, которой огород называется Гортус Медикус (Hortus Medicus), или огород лекарственной, тот огород строится всем Амстрадамом. В том огороде зело многое множество древ иностранных, а именно: из Индии – масличные и коричные, и померанцевые, и кипарисы, и цитроновые и прочие; также многие благоуханные травы и разные видами; и устроены тем древам и травам изрядные места, и вносятся в хладное время в амбары, а травам сделаны места и сысподи печи (оранжереи). В том же садовом дому в амбаре стоят многие скляницы и сулейки, и стаканы, а в них в спиритусе морские дивы, во всяком судне особо – змии, крокодилы, саламандры и иные многие»[3]. Предприняв путешествие по Голландии для обзора ее достопримечательностей, Петр посетил знаменитый тогда Лейденский университет, где опять особенное внимание обращено было на анатомический музей: «Были в Академии и в Анатомии», – как записано в его дневнике (Юрнале). При проезде через город Дельфт Петр знакомится с знаменитым зоологом Левенгуком, впервые начавшим применять микроскоп в исследовании по зоологии. Царь с большим интересом, как говорит местное предание, осмотрел находившиеся в этом городе оружейные заводы. Ему, как и всегда, надоедала неотвязчиво следовавшая за ним толпа любопытных, и вот, чтобы избавиться от нее, он сел в яхту и отплыл на середину реки Ши, на которой расположен Дельфт, пригласив с собою Левенгука.
Здесь на яхте Левенгук показывал ему усовершенствованные им микроскопы и объяснял закон кровообращения, демонстрируя его на препаратах. Царь с большим удовольствием занимался наблюдениями в микроскоп[4]. Насмотревшись на естественно-научные коллекции в Голландии, Петр там же стал заводить свою естественно-научную коллекцию. Из Амстердама отправлялись в Россию морским путем через Архангельск купленные им зоологические экземпляры: крокодил, рыба «швертфиш» и целый ряд морских редкостей, животных и растений «в скляницах», т. е. в банках со спиртом; для них заказаны были деревянные футляры или ящики «ковчежцы», куда их помещали, перекладывая хлопчатой бумагой[5]. Эти коллекции послужили впоследствии основанием Кунсткамеры при Академии наук в Петербурге. Вероятно, зная об интересе, проявленном Петром к естественно-историческим коллекциям, некий голландец поднес ему, как записано в расходной книге, «две доски мух», т. е. две доски с наколотыми на них экземплярами насекомых, за что получил очень большое по тому времени вознаграждение: четыре пары соболей в 60 рублей[6].
В январе 1698 года Петр из Голландии переехал в Англию. Осмотрев Лондон, он поселился в одном из лондонских предместий, небольшом городке Дептфорде, где под руководством английских инженеров продолжал изучать кораблестроение, проходя теперь его теоретическую часть, которой не нашел в Голландии. И в Англии – та же научная любознательность и тот же интерес к успехам знания, посещения музеев и научных учреждений и знакомства с учеными, с крупнейшими учеными века. 27 января мы находим Петра в музее Королевского общества – во дворе Ройяль-Социетет, как записано в его дневнике – «Юрнале». Под 9 марта в том же «Юрнале» отмечено развлечение, свидетельствующее, может быть, и не об очень высоком развитии его вкусов: смотрели какую-то необыкновенную женщину-великана, у которой царь, человек ростом без двух вершков в сажень, проходил под протянутую руку, не нагибаясь: «Была у нас великая женщина после обеда, которая протянула руки и, не наклонясь, десятник (так Петр именовался в составе посольства, начальствуя «десятком» в отряде волонтеров) под руку прошел». Но под тем же числом там же читаем другую отметку: «Ездил десятник к острономику», т. е. посетил астрономическую обсерваторию, находящуюся в лежащем рядом с Дептфордом ниже его на том же правом берегу Темзы Гринвиче. Директором обсерватории был тогда Фламстид (Flamsteed), известный в истории науки составлением звездных каталогов. 8 апреля Петр был в Оксфорде, осматривал университет. Оксфорд, как записано в распространенной впоследствии редакции «Юрнала», «имеет славный университет, который в 880 или 890 или в 895 году королем Алфредом основан; тут есть славная библиотека, именуемая Бодлеанская; есть там 18 коллегий, в которых студенты живут под жестоким правлением… и имеют для забавы изрядные сады и аллеи; одеяние же их единообразно, но отменно от других». Оксфордский университет произвел на Петра самое благоприятное впечатление: «вернулись домой, – замечает «Юрнал», – зело довольны тем путешествием»[7]. Может быть, в связи с этим посещением и как следствие этого впечатления поручено было находившемуся в Англии при Петре упомянутому выше русскому доктору П. В. Посникову «осмотреть» английские академии и, надо полагать, представить отчет об этом осмотре для устройства чего-нибудь подобного в России. На расходы по этому поручению ему дана была большая сумма – 30 фунтов стерлингов[8].
Под 5 и 6 апреля 1698 г. в «Юрнале» отмечены поездки «к математику», именно: в «5 день после обеда ездили верхами к математику; в 6 день в вечеру ездили в шлюпке к математику». Пространная редакция «Юрнала» дает здесь иное чтение: под 5 апреля «После обеда ездили верхами к одному славному математику», под 6-м: «В вечеру ездили в шлюпке к другому математику», так что, оказывается, Петр в эти дни посетил не одного, а двух разных математиков. Кого надо разуметь под этими обозначениями? Предание указывает на знаменитого математика и астронома Галлея, члена Королевского общества, автора каталога южных звезд, позже в 1720 году сменившего Фламстида на посту директора Гринвичской обсерватории. Наконец, Петр познакомился и с величайшим математиком своего времени. Неоднократно посещая помещавшийся в Тоуере монетный двор, где производилась тогда перечеканка английской монеты машинным способом, особенно его заинтересовавшим, Петр неизбежно должен был встретиться с директором монетного двора, каковым был тогда Исаак Ньютон, занимавшийся этой должностью так деятельно, что не оставлял себе, по замечанию Маколея, времени на те труды, которыми стал выше Архимеда и Галилея.
IV
Вот несколько фактов, взятых нами из биографии Петра за время его первой поездки за границу в 1697 и 1698 годах, в достаточной мере свидетельствующих о том интересе, который проявлен был им к науке и ученым. Этот интерес не только не ослабевает, но еще усиливается за время следующих его заграничных поездок. В путешествие 1711 года он встретился и беседовал с Лейбницем, с которым завел переговоры о принятии его на русскую службу, а затем стал давать ему различные поручения, касавшиеся устройства просвещения в России. Так Ньютон и Лейбниц, эти величайшие мыслители-теоретики оказались лично знакомы с гениальным практиком-организатором, каким был Петр. В 1717 году в Париже Петр был принят в число членов Французской академии наук, и он, действительно, ценил это звание, потому что ценил вообще науку и хорошо понимал ее значение. Понятие о значении научного знания, о его непосредственной пользе, о его влиянии на устройство жизни он усвоил с самой ранней молодости, гораздо ранее, чем для него стало ясно и понятно значение другой великой области человеческого творчества – искусства. Рассказывают, что в бытность в Лондоне в 1698 году при посещении Кенсингтонского королевского дворца он не обратил никакого внимания на собранные там сокровища искусства, но весь отдался рассматриванию замеченного им там инструмента, определявшего направление ветра. Позже с годами, – когда он осматривал Кенсингтонский дворец, ему шел только 26-й год от роду – вкусы его развились, он стал ценить и искусство, покупая за границей немало художественных произведений, и положил основание коллекциям голландской школы Эрмитажа. Его ум отличался свойством, требовавшим во всем точности, фактов, цифр и измерений. Раз в Голландии, когда его везли в карете из Амстердама в Гаагу, вечером, когда уже совсем стемнело, при переправе на пароме он испытал небольшой толчок при въезде кареты на паром. «Что это такое?» Ему ответили, что переезжают реку на пароме. «Хочу видеть!» – ему подают фонарь. Он начинает измерять дюймомером длину, ширину и глубину парома и продолжает это делать до тех пор, пока порыв ветра не погасил фонаря[9]. Точное математическое знание стало интересовать Петра ранее других отраслей знания; оно привлекало его к себе своею приложимостью к делу и, в особенности, к любимому делу. Без математических вычислений нельзя было обойтись ни в военном деле, особенно в столь любимой им артиллерии, ни в мореплавании и кораблестроении.
В следующую по времени очередь симпатии Петра обращаются к естествознанию; его начинают занимать мир растений и животных и главным образом устройство человеческого организма, и эти отрасли знания также влекут его своей приложимостью к жизни, например, во врачебном искусстве, в разных отраслях промышленности. Наконец, пришла очередь и тех областей знания, которые мы называем гуманитарными науками. И к этой области Петр питал большой интерес, и прежде всего также, конечно, интерес утилитарного свойства. Юридические и политические науки были ему нужны как хорошее средство для подготовки государственных деятелей, администраторов и судей, – и он приказывает переводить сочинения Пуффендорфа. История рассматривалась как полезное знание для воспитания граждан вообще, а при случае можно было сослаться на исторические факты как на прецеденты. Так, в предисловии к указу о престолонаследии 5 февраля 1722 года, им самим написанном или продиктованном, Петр, обнаруживая начитанность в русских летописях, ссылается в качестве исторического прецедента для издаваемой им нормы на распоряжения о престолонаследии великого князя Ивана III, который сначала назначил себе наследником внука Дмитрия в обход сына Василия, а потом этого назначенного и уже венчанного наследника отставил и отдал наследство сыну. Особенный интерес питал Петр к отечественной истории, и это выразилось, во-первых, в указах о собирании и сохранении рукописных памятников старины, а затем и в заботах о составлении истории российской в литературной обработке. В 1716 году, будучи в Кенигсберге и найдя там один из списков древней русской летописи – Кенигсбергский, он приказал снять с него копию. В 1720-х годах издавались указы о собирании старинных рукописей, подобные указам о собирании монстров и раритетов для естественнонаучных коллекций. Так, в одном из таких указов от 10 января 1722 года читаем, что царь, будучи в Преображенском на Генеральном дворе, указал «из всех епархий и монастырей, где о чем куриозные, т. е. древних лет рукописанные на хартиях (пергамине) и на бумаге церковные и гражданские летописцы, степенные, хронографы и прочие сим подобные, что где таковых обретается, взять в Москву»; в Москве с них снять копии, возвратив затем оригиналы их владельцам. Литературная обработка русской истории предпринималась неоднократно. Еще в 1708 году она была поручена справщику Московской типографии, ученику знаменитых основателей Славяно-греко-латинской академии братьев Лихудов, а потом и преподавателю той же академии Федору Поликарпову, который должен был составить русскую историю до начала царствования Петра, причем написать ее в двух редакциях: краткой и пространной. Петр внимательно следил за ходом этого труда. Поликарпов, по-видимому, задался слишком широкими планами, хотел связать русскую историю со всемирной и начать изложение русской истории слишком издалека. Управляющий Монастырским приказом, также человек ученый, воспитанник Славяно-греко-латинской академии – Мусин-Пушкин, через посредство которого Петр вел сношения с Поликарповым, торопя последнего и сообщая ему о великом желании царя видеть его работу оконченной, по поручению Петра, конечно, ставил его книге более узкие рамки и рекомендовал более упрощенные методы. «Понеже, – писал он ему, – его царское величество желает ведать Российского государства историю и о сем первее трудиться надобно, а не о начале света и других государствах, понеже о сем много писано. И того ради надобно тебе из русских летописцев выбирать и в согласие приводить прилежно[10]. О сем имей старание, да имаши получить не малую милость, от гнева же да сохранит тебя Боже!» В этих наставлениях виден практический смысл Петра. К чему плохо подготовленному русскому автору излагать историю иноземных государств, когда для этого можно воспользоваться обильной западной литературой? Нужна прежде всего русская история, которой в литературе еще нет. И в русской истории Петра более всего интересует не «начало света» и не гипотезы о древнейших покрытых туманом дали временах, а последние два века – XVI и XVII, начиная с княжения Василия III (с 1505 года), т. е. новая и новейшая история, как бы мы теперь сказали. Такое историческое сочинение должно было познакомить его с недавней стариной, изложить ему события, с близкими последствиями которых ему самому приходилось иметь дело, объяснить ему происхождение тех окружавших его явлений русской жизни, на которые он сам стремился воздействовать своею волей преобразователя. Одновременно с мыслью об истории России за два последних века Петра занимала мысль о составлении истории его собственного царствования, и для составления такой истории был сделан ряд попыток при его личном ближайшем участии и сотрудничестве. В этом стремлении движущей силой мог быть публицистический интерес: дать объяснение своей деятельности, указать на ее разумность и полезность. Но, наряду с этими столь ясно просвечивающими утилитарными соображениями и целями в отношении Петра к различным отраслям знания, нельзя отрицать у него также и более бессознательного влечения, инстинктивной любознательности, присущей ему от природы. На знание он смотрел как на полезное приобретение, и старался, как и в чем только мог, воспользоваться им и использовать его; но отличавшая его любовь к знанию как чувство, не могла быть, разумеется, вызвана только этими разумными, сознательными соображениями; она, составляя его душевное свойство, вложена была в него от природы. В науке он более всего ценил прикладное и понимал фактическое; теоретическое и отвлеченное давалось ему труднее. Но иногда он мог блеснуть способностью вдруг подняться на вершину отвлеченной теории, схватить и высказать самое отвлеченное и обобщенное философское положение. Однажды, смотря на Готторпский глобус, в котором могло поместиться до десяти человек, он будто бы сказал доктору Блументросту: «Мы теперь в большом мире; этот мир есть в нас; тако миры суть в мире». «Трудно решить, – замечает по этому поводу академик Лаппо-Данилевский, – находился ли в данном случае царь под влиянием идей Лейбница о монадах, припоминал ли рассуждения Фонтенеля о множестве миров, имел ли в виду «книгу мирозрения» Гюйгенса или какую-либо другую систему»[11]. В личной библиотеке Петра находились и философские книги голландского издания.