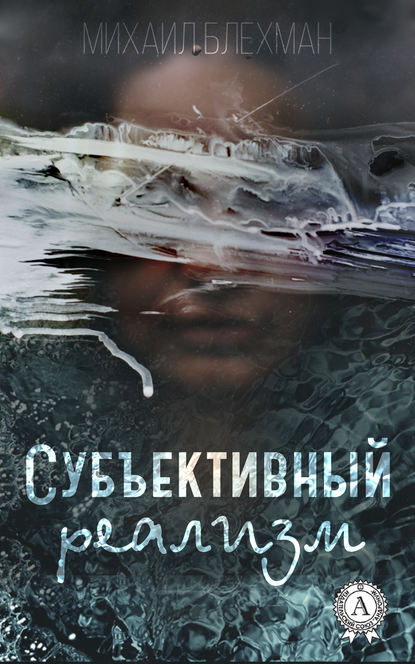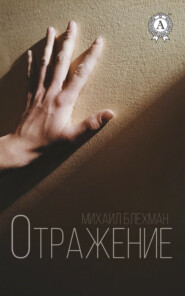По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Субъективный реализм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В следующий раз, – добавил я, – мне исполнится вдвое больше. Втрое – нет, конечно, а вдвое – надеюсь, исполнится…
Здесь так одиноко и свободно, будто гитарная струна зазвенела давным-давно, между строк моей книги в розовом переплёте, между детством и юностью, между двумя морями, и всё звенит и звенит, не собираясь оборваться.
– Свободно? – задумчиво улыбнулся он.
Не снисходительно, просто задумчиво. Вопросительный знак предварил его фразу, отразившись в прозрачной воде не так, как положено отражению, а забавно, вверх тормашками.
– Свободно? – повторил он, уже без улыбки. – Стоит свободе начаться по-настоящему, превратиться из необычной болезненной мечты в обычную здоровую реальность, как она на поверку оказывается несвободой. Ещё большей несвободой, чем та, на смену которой пришла.
Он посмотрел на равнодушно покачивающийся катер и снова улыбнулся. Не злорадно – мне показалось, что злорадствовать он не умеет. И не растерянно – наверно, не мог позволить себе такую роскошь. Или надеялся, что наш разговор не расслышат за шумом морских волн.
– Океанских, – поправил он меня. – Это – океан.
Моя книга помогла мне снова понять его.
Невидимый порыв ветра перевернул страницу, сорвал с моей любимой буквы птичку, похожую на старую пилотку или новенький берет, и она улетела куда-то вместе с тремя непересекающимися дорогами, возможно, в ещё более тёплую страну. И буква из моей любимой стала вполне заурядной, каких много. Не менее нужной, просто заурядной.
– Океан! – воскликнула улетающая птица, а восклицательный знак предварил её крик и отразился в морской воде так же, как вопросительный: вверх тормашками.
Он выбросил недокуренную сигару, в последний раз помотрел на оставленный катер, махнул мне на прощание, сказал «Не прощаюсь!» и, недолго постояв на развилке, пошёл по одной из разбитых дорог.
Я перевернул страницу и снова увидел любимую букву.
«Хуже необходимости выбирать, – подумали мы, каждый про себя, – бывает только навязываемая невозможность выбора».
Мне кажется, он думал именно об этом. Правда, моя книга в розовом переплёте не могла помочь мне заглядывать в чужие мысли.
– Так уж в чужие? – воскликнул вопросительный знак и, прикинувшись восклицательным, отразился вверх тормашками в диковинной океанской воде.
Старый катерок по-музейному выспренно покачивался на волнах. Название на борту почти исчезло – наверно, его разъела соль. Или, может, причина в том, что в этом названии никогда не было моей любимой буквы? Буква-то была, но заурядная, не с той страницы: птичка улетела, даже не попытавшись усесться на борту. Или, возможно, имя, такое же красивое, как женщина, его носившая, было обречено со временем превратиться в безличное местоимение?
Я ещё раз посмотрел на ушедшие дороги. Теперь они казались мне очень похожими одна на другую – не различить, сколько ни вглядывайся. Я решил пойти по тропинке, но – не шлось почему-то… Может быть, когда я буду вдвое старше, пойму причину?
Втрое – нет, конечно, а вдвое всё-таки, наверно, буду.
Салун
Первым слово взял Сруль. С присущей ему, по мнению всех или почти всех присутствующих, наглостью, подкреплённой, в соответствии с тем же мнением, чувством высокомерного превосходства не только над поименованными присутствующими, но и над неназванными отсутствующими, нахальновато улыбаясь и неприемлемо для высокого собрания картавя, он встал из-за круглого стола и заявил во всеуслышание:
– Уважаемые соратники! По праву председателя собрания беру слово.
– А в репу? – недобро отозвался в принципе добрый Василий, опрокидывая в традиционно широко открытый рот содержимое неизменного гранёного стакана и отправляя туда же ложку ожидаемой красной икры. – Кто ты такой, чтоб слова брать? Нам паршивые председатели без надобности. Лучше пусть вон Джоник председательствует, он хоть существо и примитивное, это всем известно, и души моей, ясное дело, не понимает, да и куда ему, а всё равно, Срулька, ты ему не чета.
Джон, известный Василию своей примитивностью, примитивно и снисходительно ухмыльнулся, ожидаемо положил ноги на круглый стол, откусил и выплюнул кончик сигары и надвинул шляпу на лоб.
– При всём моём явном уважении к Джону и тайном презрении к вам, Василий, – всё так же неприятно резанул слух Василия Сруль, – председателем может быть только ваш покорный слуга. Впрочем, служить вам не намерен, увольте.
– Поясните, почему же только вы? – тонко, но зловеще, как ему и надлежит, улыбнулся дон Чарлеоне, поправляя неизменный, безукоризненно выложенный воротник белоснежной рубашки. Его до боли знакомая почти всем иссиня-чёрная, блестящая лаком безукоризненная шевелюра гармонировала со стандартными белоснежными зубами, чёрными брюками и лакированными туфлями. Сруль открыл рот, чтобы мотивировать свою точку зрения, но в это мгновение у дона Чарлеоне зазвонил мобильный телефон. Дон с непроницаемым лицом послушал и произнёс с нетерпением ожидаемую всеми фразу:
– Разумеется, в асфальт. Начинайте без меня, Виченцо, у меня важный строительный проект.
Тут же зазвонил мобильный телефон Василия. Предварительно опорожнив стакан и заев икрой, Василий профессионально распорядился:
– Ваня, покупай асфальтовый завод.
Франсуаза, в сумочке которой творился традиционный милый беспорядок, ухитрилась найти среди десятков флакончиков наимоднейший, небрежно капнула себе за ушками и обвела присутствующих наивным, почти детским взглядом, оценивая, кому бы и с кем бы изменить. Дон Чарлеоне нервно выбросил свой мобильный телефон из окна, после чего, разумеется, намотал на вилку полуметровый макарон, сдобренный помидорным соком и посыпанный сыром.
– Потому что вы же сами говорили, что я – самый хитрый из вас! – наконец-то смог ответить Сруль и поднял крючковатый палец.
– Я всё равно хитрей всех! – возразил Срулю Грыць, откусывая сала. – Васька вон знает, можете кто угодно у него спросить. А тебя, Срулька, ни в жизнь никуда не допущу.
Сруль принял услышанное сказанное за неизбежное должное, а Василий возразил:
– Не самообольщайся, Гриц. Ты так же примитивен, как Джон, только у Джона сигара большая и кольт в заднем кармане, а у тебя, кроме меня, никого нет.
Грыць невесело махнул рукой:
– Краще самому, але з салом, нiж з твоею клятою iкрою замiсть сала.
– Ты, Гриц, без меня, как Франсуаза без своего Франсуа. Не советую забывать. – И довольный Василий снова обильно выпил и плотно закусил.
Франсуаза, уже решившая, с кем изменить, но ещё не выбравшая, кому, традиционно откусила от лягушачьей ножки и улыбнулась ещё тоньше, чем дон Чарлеоне:
– Измена потому и называется изменой, – соблазнительно програссировала она, – что носит непостоянный характер. А что может быть очаровательнее непостоянного характера?
Джон потянул виски, затянулся сигарой и, не целясь, от бедра выстрелил из кольта в переносицу сонной мухе, отдыхавшей на потолке.
– Терпеть не могу жуков, особенно в зале заседаний, буркнул он, явно щеголяя перед Василием своей решительной примитивностью.
– Но это же муха! – картинно всплеснула руками Франсуаза и заела неизменным сыром. – Причём сонная. – Наконец-то она поняла, кому следует изменить.
– Какая разница, как назвать раздражающий объект? – Джон равнодушно дунул в кольт и снова надвинул шляпу на глаза.
Сруль тем временем продолжил гнуть свою линию:
– Я, как самый – с чем вы не будете спорить, – жадный из вас, требую слова.
Дон Чарлеоне блеснул широкозубой улыбкой и массивным чёрным перстнем на мизинце:
– Ждём от вас разумного предложения, Сруль. Вы, разумеется, поддержите идею траттории?
И почти незаметным ловким движением снял рекордно длинную лапшу с оттопыренного уха Василия.
– А я всё равно жадней Сруля, – возразил Грыць, но никто не обратил на него внимания.
– При всём моём сдержанном уважении к дону Чарлеоне, – продолжал Сруль, – траттория не выглядит лучшим вариантом. Слишком уж это специфично. Предлагаю кошерный ресторан.
И, перекрикивая зашумевших, картаво добавил:
Здесь так одиноко и свободно, будто гитарная струна зазвенела давным-давно, между строк моей книги в розовом переплёте, между детством и юностью, между двумя морями, и всё звенит и звенит, не собираясь оборваться.
– Свободно? – задумчиво улыбнулся он.
Не снисходительно, просто задумчиво. Вопросительный знак предварил его фразу, отразившись в прозрачной воде не так, как положено отражению, а забавно, вверх тормашками.
– Свободно? – повторил он, уже без улыбки. – Стоит свободе начаться по-настоящему, превратиться из необычной болезненной мечты в обычную здоровую реальность, как она на поверку оказывается несвободой. Ещё большей несвободой, чем та, на смену которой пришла.
Он посмотрел на равнодушно покачивающийся катер и снова улыбнулся. Не злорадно – мне показалось, что злорадствовать он не умеет. И не растерянно – наверно, не мог позволить себе такую роскошь. Или надеялся, что наш разговор не расслышат за шумом морских волн.
– Океанских, – поправил он меня. – Это – океан.
Моя книга помогла мне снова понять его.
Невидимый порыв ветра перевернул страницу, сорвал с моей любимой буквы птичку, похожую на старую пилотку или новенький берет, и она улетела куда-то вместе с тремя непересекающимися дорогами, возможно, в ещё более тёплую страну. И буква из моей любимой стала вполне заурядной, каких много. Не менее нужной, просто заурядной.
– Океан! – воскликнула улетающая птица, а восклицательный знак предварил её крик и отразился в морской воде так же, как вопросительный: вверх тормашками.
Он выбросил недокуренную сигару, в последний раз помотрел на оставленный катер, махнул мне на прощание, сказал «Не прощаюсь!» и, недолго постояв на развилке, пошёл по одной из разбитых дорог.
Я перевернул страницу и снова увидел любимую букву.
«Хуже необходимости выбирать, – подумали мы, каждый про себя, – бывает только навязываемая невозможность выбора».
Мне кажется, он думал именно об этом. Правда, моя книга в розовом переплёте не могла помочь мне заглядывать в чужие мысли.
– Так уж в чужие? – воскликнул вопросительный знак и, прикинувшись восклицательным, отразился вверх тормашками в диковинной океанской воде.
Старый катерок по-музейному выспренно покачивался на волнах. Название на борту почти исчезло – наверно, его разъела соль. Или, может, причина в том, что в этом названии никогда не было моей любимой буквы? Буква-то была, но заурядная, не с той страницы: птичка улетела, даже не попытавшись усесться на борту. Или, возможно, имя, такое же красивое, как женщина, его носившая, было обречено со временем превратиться в безличное местоимение?
Я ещё раз посмотрел на ушедшие дороги. Теперь они казались мне очень похожими одна на другую – не различить, сколько ни вглядывайся. Я решил пойти по тропинке, но – не шлось почему-то… Может быть, когда я буду вдвое старше, пойму причину?
Втрое – нет, конечно, а вдвое всё-таки, наверно, буду.
Салун
Первым слово взял Сруль. С присущей ему, по мнению всех или почти всех присутствующих, наглостью, подкреплённой, в соответствии с тем же мнением, чувством высокомерного превосходства не только над поименованными присутствующими, но и над неназванными отсутствующими, нахальновато улыбаясь и неприемлемо для высокого собрания картавя, он встал из-за круглого стола и заявил во всеуслышание:
– Уважаемые соратники! По праву председателя собрания беру слово.
– А в репу? – недобро отозвался в принципе добрый Василий, опрокидывая в традиционно широко открытый рот содержимое неизменного гранёного стакана и отправляя туда же ложку ожидаемой красной икры. – Кто ты такой, чтоб слова брать? Нам паршивые председатели без надобности. Лучше пусть вон Джоник председательствует, он хоть существо и примитивное, это всем известно, и души моей, ясное дело, не понимает, да и куда ему, а всё равно, Срулька, ты ему не чета.
Джон, известный Василию своей примитивностью, примитивно и снисходительно ухмыльнулся, ожидаемо положил ноги на круглый стол, откусил и выплюнул кончик сигары и надвинул шляпу на лоб.
– При всём моём явном уважении к Джону и тайном презрении к вам, Василий, – всё так же неприятно резанул слух Василия Сруль, – председателем может быть только ваш покорный слуга. Впрочем, служить вам не намерен, увольте.
– Поясните, почему же только вы? – тонко, но зловеще, как ему и надлежит, улыбнулся дон Чарлеоне, поправляя неизменный, безукоризненно выложенный воротник белоснежной рубашки. Его до боли знакомая почти всем иссиня-чёрная, блестящая лаком безукоризненная шевелюра гармонировала со стандартными белоснежными зубами, чёрными брюками и лакированными туфлями. Сруль открыл рот, чтобы мотивировать свою точку зрения, но в это мгновение у дона Чарлеоне зазвонил мобильный телефон. Дон с непроницаемым лицом послушал и произнёс с нетерпением ожидаемую всеми фразу:
– Разумеется, в асфальт. Начинайте без меня, Виченцо, у меня важный строительный проект.
Тут же зазвонил мобильный телефон Василия. Предварительно опорожнив стакан и заев икрой, Василий профессионально распорядился:
– Ваня, покупай асфальтовый завод.
Франсуаза, в сумочке которой творился традиционный милый беспорядок, ухитрилась найти среди десятков флакончиков наимоднейший, небрежно капнула себе за ушками и обвела присутствующих наивным, почти детским взглядом, оценивая, кому бы и с кем бы изменить. Дон Чарлеоне нервно выбросил свой мобильный телефон из окна, после чего, разумеется, намотал на вилку полуметровый макарон, сдобренный помидорным соком и посыпанный сыром.
– Потому что вы же сами говорили, что я – самый хитрый из вас! – наконец-то смог ответить Сруль и поднял крючковатый палец.
– Я всё равно хитрей всех! – возразил Срулю Грыць, откусывая сала. – Васька вон знает, можете кто угодно у него спросить. А тебя, Срулька, ни в жизнь никуда не допущу.
Сруль принял услышанное сказанное за неизбежное должное, а Василий возразил:
– Не самообольщайся, Гриц. Ты так же примитивен, как Джон, только у Джона сигара большая и кольт в заднем кармане, а у тебя, кроме меня, никого нет.
Грыць невесело махнул рукой:
– Краще самому, але з салом, нiж з твоею клятою iкрою замiсть сала.
– Ты, Гриц, без меня, как Франсуаза без своего Франсуа. Не советую забывать. – И довольный Василий снова обильно выпил и плотно закусил.
Франсуаза, уже решившая, с кем изменить, но ещё не выбравшая, кому, традиционно откусила от лягушачьей ножки и улыбнулась ещё тоньше, чем дон Чарлеоне:
– Измена потому и называется изменой, – соблазнительно програссировала она, – что носит непостоянный характер. А что может быть очаровательнее непостоянного характера?
Джон потянул виски, затянулся сигарой и, не целясь, от бедра выстрелил из кольта в переносицу сонной мухе, отдыхавшей на потолке.
– Терпеть не могу жуков, особенно в зале заседаний, буркнул он, явно щеголяя перед Василием своей решительной примитивностью.
– Но это же муха! – картинно всплеснула руками Франсуаза и заела неизменным сыром. – Причём сонная. – Наконец-то она поняла, кому следует изменить.
– Какая разница, как назвать раздражающий объект? – Джон равнодушно дунул в кольт и снова надвинул шляпу на глаза.
Сруль тем временем продолжил гнуть свою линию:
– Я, как самый – с чем вы не будете спорить, – жадный из вас, требую слова.
Дон Чарлеоне блеснул широкозубой улыбкой и массивным чёрным перстнем на мизинце:
– Ждём от вас разумного предложения, Сруль. Вы, разумеется, поддержите идею траттории?
И почти незаметным ловким движением снял рекордно длинную лапшу с оттопыренного уха Василия.
– А я всё равно жадней Сруля, – возразил Грыць, но никто не обратил на него внимания.
– При всём моём сдержанном уважении к дону Чарлеоне, – продолжал Сруль, – траттория не выглядит лучшим вариантом. Слишком уж это специфично. Предлагаю кошерный ресторан.
И, перекрикивая зашумевших, картаво добавил: