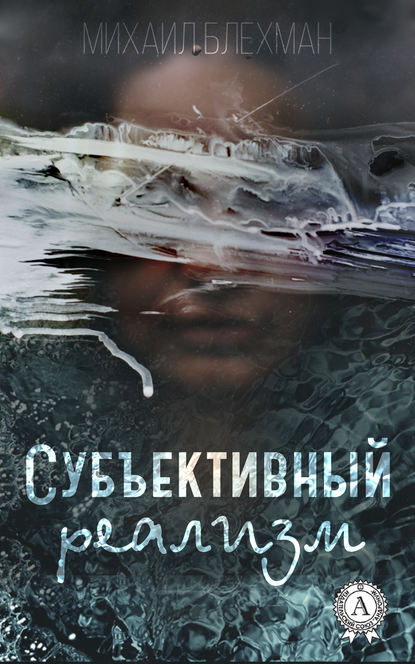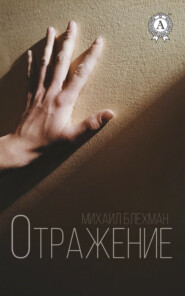По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Субъективный реализм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Собственно говоря, они обе – отличницы, нас никогда не то что не вызывали в школу – этого ещё не хватало! – а так же регулярно и публично ставили в пример, как какого-нибудь шалопая ставят в угол. Но быть примерным родителем не означает избежать животрепещущих вопросов, то есть таких, которые ждёшь с трепетом и трепещешь, когда тебе их всё-таки задают…
Я подошёл к дому, над входной дверью которого висел транспарант – «Лудильня». Точнее, кажется, с восклицательным знаком: «Лудильня!». Или с вопросительным?… Не помню, да и это ли важно в сравнении с остальным…
Я позвонил, постучал, громыхнул и хлопнул дверью. Лудильщик не обратил на меня особого внимания: он смотрел в записи репортаж с Площади объяснений: после манифестации как раз начали показывать Лудильщика, предлагающего лудильные услуги всем собравшимся, в том числе и мне. Мы посматривали вокруг, прислушивались к голосам и слухам, поглядывали и приглядывались, незаметно замечая друг у друга важнейшие подробности, в том числе, о чём неоднократно напоминали массовые объяснения, цвет шнурков. В особенности, само собой разумеется, на правых туфлях.
На всех стенах лудильной гостиной висели откровенные наглядные пособия, заранее убеждающие в неоспоримой правильности того, что предстоит услышать всякому входящему. Эти настенные пособия – любые отец и мать подтвердили бы – выглядели весьма недетскими.
Пришлось прервать опасно затянувшуюся паузу и воскликнуть, возмущённо, как и полагалось мне в моём незавидном положении:
– Чем же вы занимаетесь, малоуважаемый? Не стыдно ли вам?
Лудильщик дождался второстепенного кадра и ответил – так зычно, что телекамера во избежание эксцессов снова принялась показывать его:
– Имеете смелость подвергать сомнению основы?
Я по-отцовски беспомощно развёл руками и вспомнил, что никогда не выигрываю споров, хотя и не проигрываю, а Лудильщик продолжил ещё зычнее:
– Что значит, чем? Именно тем, что мне положено по штатному расписанию: лужу. Л ужу всё, что требует лужения и подлежит оному.
– Лудите себе на здоровье, – воскликнул я, – но зачем же вы детям забили головы недетской информацией?
Готовясь к продолжительной беседе, Лудильщик отпил кипячёной воды из гранёного стакана.
– Я не забил головы, а залудил их, – деловито разъяснил он, – поскольку вступать во взрослую жизнь без этих жизненно важных сведений непозволительно. Да и не во взрослую тоже. Их следует внедрить в себя с младых ногтей, чтобы, влетев в одно ухо, они ни в коем разе не вылетели в другое. И чтобы узнавший столь важную информацию говорил о ней громко, не стесняясь ни себя, ни тем более окружающих.
– При чём тут ногти и уши? – воскликнул я. – Ваше дело – посуда, вот и сконцентрируйтесь на лужении кастрюль.
– Имеете смелость не только сомневаться в основах, но и поучать меня, их охраняющего? – прозвенел Лудильщик. – Лужение есть моё служение обществу. Моя задача, давно уже ставшая великой самоцелью – лудить не только и не столько не дающие вам покоя кастрюли, сколько уши, горла, глотки, души и прочее. Душа, открою вам истину, – та же кастрюля. Если прохудилась – её нужно залудить, а потом – наполнить требуемым содержимым, чтобы столь важное место не оказалось пусто.
Я сел рядом с ним и спросил, избегая слишком явного конфликта:
– Удаётся?
– При моей работе без выходных и моём же профессионализме – ещё бы! Я, милый мой, лужу всегда, лужу всех и везде, даже во сне. Разумеется, успешнее всего мне лудится на Площади объяснений, при массовом скоплении жителей нашего города. Ну, а в отдельных случаях могу отлудить и на дому, и здесь, в лудильне.
Он выключил телевизор и продолжил:
– Я залуживаю людям головы важнейшим сведением, а именно – тем, что они подразделяются в зависимости от главного фактора.
Перебить его мне не удалось, он настойчиво развивал и без того уже развитую мысль:
– Главным же фактором является, уж простите за банальность, форма, цвет и длина шнурков, особенно, разумеется, на правой туфле. Благодаря мне, лудимые понимают, что, соответственно, на свете есть длинношнурые, темношнурые, расшнурые, толстошнурые, рыжешнурые, бантошнурые, пегошнурые и многие прочие. Это подразделение не имеет никакого отношения ни к возрастному, ни к имущественному, ни какому бы то ни было иному факту приземлённого значения. Речь идёт о высоком, отсюда и высокие понятия.
– А я? – спросил я, хотя мне тоже, помнится, с моих младых ногтей объяснили, кем я являюсь и кем, соответственно, нет… Но вдруг за это время что-нибудь изменилось? Нужно бы почаще захаживать на Площадь…
– Вы – малошнурый, – ответил Лудильщик, и я понял, что пока изменений не произошло.
– Слушайте, – вспылил я, – а почему меня относят к этим вашим малошнурым? Из-за того, что у меня мало шнурков? Или они маленькие? Так ничего же подобного! Я тысячу раз уже объяснял!..
– Нет, потому, что таких, как вы – шнурков и шнурковладельцев – мало.
Такой логический поворот обещал некоторые послабления, если не привилегии.
– Браво! – сказал я зычнеющим от пробуждаюшейся гордости голосом.
– Однако остальные, – осадил меня Лудильщик, – считают, что находиться в меньшинстве нехорошо. Впрочем, оценивать – не моя прерогатива. Поставленная передо мною задача – просвещать облуживаемых, а оценки они потом дают сами, по результатам проведённого лужения.
Махнув рукой, я вышел на улицу.
Случайный прохожий явно неслучайно торопился в сторону Площади объяснений. Я поспешил остановить его и спросил снова подсевшим голосом:
– Будьте добры, вы кто?
– Праздный вопрос! – звонко ответил прохожий. – Я – малошнурый. И вы, как мне кажется, тоже, не правда ли?
Правду сказать всегда приятно, почему же о ней так часто умалчивают?
– Пусть малошнурый. Но какой в это вкладывается смысл?… – нериторически ответил я на его риторический вопрос.
– Дело не в смысле, а в естественной гордости! – укорил меня прохожий. – Я горжусь своей малошнуростью. Нас мало, нас почти не осталось, кто бы что бы ни говорил, но, невзирая ни на что, а взирать есть на что! – мы есть и будем! Самые выдающиеся люди во все времена были малошнурыми. Более того: процент выдающихся личностей наиболее высок именно среди нас с вами. Скажу вам по-свойски: малошнурый – это свой. А все остальные, каковы бы они ни были, всё равно менее свои. Причём некоторые – вы меня понимаете – вообще чужие.
Я опять развёл руками, но, разумеется, совсем не по-отцовски:
– Мне, судя по моим собственным наблюдениям, постоянно встречается столько же чужих своих, сколько своих чужих…
Прохожий категорически не согласился:
– Это баснословно упрощённая позиция в стиле художественного примитивизма. Вот если бы вас, как когда-то было принято, отстегали за вашу малошнурость, скажем, длинным шнурком или побили незашнуровываемой правой босоножкой, вы бы осознали, что жизненно необходимо занять единственно правильную позицию: объединиться с себе подобными.
И прохожий пошёл к Площади объяснений, напоследок необычайно громко добавив:
– Озаботьтесь проблемами малошнурых. Оставьте остальным их собственные заботы: их много – я имею в виду и заботы, и остальных – вот и пусть себе.
Из Лудильни вышел Лудильщик и вслед за случайным прохожим отправился на Площадь.
Значит, подумалось мне, мнение хлещущего вытесняет ваше собственное?
– Получается, – возразил я, – что для вас определяющее значение имеет мнение хлещущих, а не ваше собственное?…
Мой друг, стоявший неподалёку, с улыбкой выслушал наш разговор. Мы поздоровались.
– Что же вы меня не поддержали? – спросил я не без укоризны. – И что же не вмешались, когда Лудильщик лудил моих прохудившихся, по его мнению, детей?
– Тогда – потому, для этого есть и обязаны быть вы. А сейчас…
Он рассмеялся:
– А сейчас – по той же причине. И потому, что кричащих мне всё равно не перекричать, я ведь никогда не посещал Лудильщика: мы с ним в равной степени против этого.
Я подошёл к дому, над входной дверью которого висел транспарант – «Лудильня». Точнее, кажется, с восклицательным знаком: «Лудильня!». Или с вопросительным?… Не помню, да и это ли важно в сравнении с остальным…
Я позвонил, постучал, громыхнул и хлопнул дверью. Лудильщик не обратил на меня особого внимания: он смотрел в записи репортаж с Площади объяснений: после манифестации как раз начали показывать Лудильщика, предлагающего лудильные услуги всем собравшимся, в том числе и мне. Мы посматривали вокруг, прислушивались к голосам и слухам, поглядывали и приглядывались, незаметно замечая друг у друга важнейшие подробности, в том числе, о чём неоднократно напоминали массовые объяснения, цвет шнурков. В особенности, само собой разумеется, на правых туфлях.
На всех стенах лудильной гостиной висели откровенные наглядные пособия, заранее убеждающие в неоспоримой правильности того, что предстоит услышать всякому входящему. Эти настенные пособия – любые отец и мать подтвердили бы – выглядели весьма недетскими.
Пришлось прервать опасно затянувшуюся паузу и воскликнуть, возмущённо, как и полагалось мне в моём незавидном положении:
– Чем же вы занимаетесь, малоуважаемый? Не стыдно ли вам?
Лудильщик дождался второстепенного кадра и ответил – так зычно, что телекамера во избежание эксцессов снова принялась показывать его:
– Имеете смелость подвергать сомнению основы?
Я по-отцовски беспомощно развёл руками и вспомнил, что никогда не выигрываю споров, хотя и не проигрываю, а Лудильщик продолжил ещё зычнее:
– Что значит, чем? Именно тем, что мне положено по штатному расписанию: лужу. Л ужу всё, что требует лужения и подлежит оному.
– Лудите себе на здоровье, – воскликнул я, – но зачем же вы детям забили головы недетской информацией?
Готовясь к продолжительной беседе, Лудильщик отпил кипячёной воды из гранёного стакана.
– Я не забил головы, а залудил их, – деловито разъяснил он, – поскольку вступать во взрослую жизнь без этих жизненно важных сведений непозволительно. Да и не во взрослую тоже. Их следует внедрить в себя с младых ногтей, чтобы, влетев в одно ухо, они ни в коем разе не вылетели в другое. И чтобы узнавший столь важную информацию говорил о ней громко, не стесняясь ни себя, ни тем более окружающих.
– При чём тут ногти и уши? – воскликнул я. – Ваше дело – посуда, вот и сконцентрируйтесь на лужении кастрюль.
– Имеете смелость не только сомневаться в основах, но и поучать меня, их охраняющего? – прозвенел Лудильщик. – Лужение есть моё служение обществу. Моя задача, давно уже ставшая великой самоцелью – лудить не только и не столько не дающие вам покоя кастрюли, сколько уши, горла, глотки, души и прочее. Душа, открою вам истину, – та же кастрюля. Если прохудилась – её нужно залудить, а потом – наполнить требуемым содержимым, чтобы столь важное место не оказалось пусто.
Я сел рядом с ним и спросил, избегая слишком явного конфликта:
– Удаётся?
– При моей работе без выходных и моём же профессионализме – ещё бы! Я, милый мой, лужу всегда, лужу всех и везде, даже во сне. Разумеется, успешнее всего мне лудится на Площади объяснений, при массовом скоплении жителей нашего города. Ну, а в отдельных случаях могу отлудить и на дому, и здесь, в лудильне.
Он выключил телевизор и продолжил:
– Я залуживаю людям головы важнейшим сведением, а именно – тем, что они подразделяются в зависимости от главного фактора.
Перебить его мне не удалось, он настойчиво развивал и без того уже развитую мысль:
– Главным же фактором является, уж простите за банальность, форма, цвет и длина шнурков, особенно, разумеется, на правой туфле. Благодаря мне, лудимые понимают, что, соответственно, на свете есть длинношнурые, темношнурые, расшнурые, толстошнурые, рыжешнурые, бантошнурые, пегошнурые и многие прочие. Это подразделение не имеет никакого отношения ни к возрастному, ни к имущественному, ни какому бы то ни было иному факту приземлённого значения. Речь идёт о высоком, отсюда и высокие понятия.
– А я? – спросил я, хотя мне тоже, помнится, с моих младых ногтей объяснили, кем я являюсь и кем, соответственно, нет… Но вдруг за это время что-нибудь изменилось? Нужно бы почаще захаживать на Площадь…
– Вы – малошнурый, – ответил Лудильщик, и я понял, что пока изменений не произошло.
– Слушайте, – вспылил я, – а почему меня относят к этим вашим малошнурым? Из-за того, что у меня мало шнурков? Или они маленькие? Так ничего же подобного! Я тысячу раз уже объяснял!..
– Нет, потому, что таких, как вы – шнурков и шнурковладельцев – мало.
Такой логический поворот обещал некоторые послабления, если не привилегии.
– Браво! – сказал я зычнеющим от пробуждаюшейся гордости голосом.
– Однако остальные, – осадил меня Лудильщик, – считают, что находиться в меньшинстве нехорошо. Впрочем, оценивать – не моя прерогатива. Поставленная передо мною задача – просвещать облуживаемых, а оценки они потом дают сами, по результатам проведённого лужения.
Махнув рукой, я вышел на улицу.
Случайный прохожий явно неслучайно торопился в сторону Площади объяснений. Я поспешил остановить его и спросил снова подсевшим голосом:
– Будьте добры, вы кто?
– Праздный вопрос! – звонко ответил прохожий. – Я – малошнурый. И вы, как мне кажется, тоже, не правда ли?
Правду сказать всегда приятно, почему же о ней так часто умалчивают?
– Пусть малошнурый. Но какой в это вкладывается смысл?… – нериторически ответил я на его риторический вопрос.
– Дело не в смысле, а в естественной гордости! – укорил меня прохожий. – Я горжусь своей малошнуростью. Нас мало, нас почти не осталось, кто бы что бы ни говорил, но, невзирая ни на что, а взирать есть на что! – мы есть и будем! Самые выдающиеся люди во все времена были малошнурыми. Более того: процент выдающихся личностей наиболее высок именно среди нас с вами. Скажу вам по-свойски: малошнурый – это свой. А все остальные, каковы бы они ни были, всё равно менее свои. Причём некоторые – вы меня понимаете – вообще чужие.
Я опять развёл руками, но, разумеется, совсем не по-отцовски:
– Мне, судя по моим собственным наблюдениям, постоянно встречается столько же чужих своих, сколько своих чужих…
Прохожий категорически не согласился:
– Это баснословно упрощённая позиция в стиле художественного примитивизма. Вот если бы вас, как когда-то было принято, отстегали за вашу малошнурость, скажем, длинным шнурком или побили незашнуровываемой правой босоножкой, вы бы осознали, что жизненно необходимо занять единственно правильную позицию: объединиться с себе подобными.
И прохожий пошёл к Площади объяснений, напоследок необычайно громко добавив:
– Озаботьтесь проблемами малошнурых. Оставьте остальным их собственные заботы: их много – я имею в виду и заботы, и остальных – вот и пусть себе.
Из Лудильни вышел Лудильщик и вслед за случайным прохожим отправился на Площадь.
Значит, подумалось мне, мнение хлещущего вытесняет ваше собственное?
– Получается, – возразил я, – что для вас определяющее значение имеет мнение хлещущих, а не ваше собственное?…
Мой друг, стоявший неподалёку, с улыбкой выслушал наш разговор. Мы поздоровались.
– Что же вы меня не поддержали? – спросил я не без укоризны. – И что же не вмешались, когда Лудильщик лудил моих прохудившихся, по его мнению, детей?
– Тогда – потому, для этого есть и обязаны быть вы. А сейчас…
Он рассмеялся:
– А сейчас – по той же причине. И потому, что кричащих мне всё равно не перекричать, я ведь никогда не посещал Лудильщика: мы с ним в равной степени против этого.