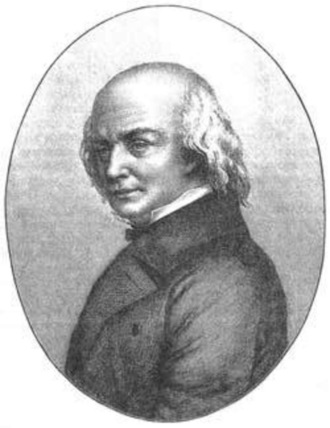
Пьер-Жан Беранже. Его жизнь и литературная деятельность
Период второй Реставрации – эпоха блестящего рас цвета французской прессы. Несмотря на существование газетной цензуры и все усердие ее начальника Вильмена, печать становится в эту пору настоящей руководительницей общественного мнения. Сам Людовик XVIII нередко защищал свои проекты на столбцах газет и бывал очень доволен, когда узнавали его «изысканное» перо. Выдающиеся органы этого времени: «Journal des Débats», «Quotidienne», «Drapeau blanc», «Conservateur», «Constitutionnel», «National» и «Minerve». «Journal des Débats» был сторонником роялистов, но без крайностей, с искренней преданностью конституционной хартии. В этом же роде был «Консерватор», где работали, между прочим, Шатобриан и Ламеннэ. В «Белом знамени» и «Ежедневнике» группировались реакционеры. «Национал» был органом либералов, здесь сотрудничали Тьер и Минье. Но самой страстной и неумолимой в своей полемике была оппозиционная «Минерва». В числе своих сотрудников она считала Курье, Бенжамена Констана и Беранже. В 1818 и 1819 годах Беранже поместил здесь целый ряд песен, среди которых отличались особенной резкостью «Священный союз» и «Миссионеры», а «Дети Франции» – неподражаемой силою искреннего пафоса. Не нужно быть французом, чтобы представить себе впечатление, которое должны были производить эти «Дети Франции», Франции, только что пережившей всю горечь унижения:
Царица мира, Франция, – о родина моя! —Чело твое истерзано врагами, —Но снова подними его и, муки затая,Гордись по-прежнему любимыми сынами!Пусть знамя их в борьбе с врагом разбито,Но слава их тобою не забыта!Никогда патриотическое чувство не находило более трогательного выражения!.. Номера, содержавшие песни Беранже, всегда расходились в громадном количестве экземпляров. В 1819 году издатели предложили поэту принять участие в их прибылях, но он отказался.
Все знали уже в эту пору, куда были направлены симпатии Беранже. Правительственные органы считали его своим опаснейшим противником; что касается его университетского начальства, то оно терпело поэта лишь благодаря покровительству Ройе-Коллара, в то время президента комиссии по народному просвещению. Однако Беранже было заявлено, что новое издание его песен повлечет за собою лишение места. Тем не менее он продолжал печатать их в «Миневре» и в то же время готовил к изданию второе собрание своих произведений. Он писал очень медленно, в год не более шестнадцати песен, ему стоило поэтому немало труда и времени набрать их значительное количество. Писатель-гражданин, он был в то же время чрезвычайно строг к своим работам в отношении их стиля.
Второй том был напечатан в октябре 1821 года. Беранже знал, что с выходом этого тома он лишится места, но решил не останавливаться перед угрозой. Среди представителей оппозиции господствовал разлад, песни Беранже должны были сплотить их в одно целое, тем более что автор предвидел судебное преследование. Книга печаталась у Фирмена Дидо в кредит, так как друзья обещали поэту значительное число подписчиков. Тем не менее Беранже почти испугался, когда вышло это издание, налагавшее на него долг в 15 тысяч франков. Но опасения поэта были напрасны, книга разошлась чрезвычайно быстро, и по уплате долга у писателя оказалась сумма в 32 тысячи франков, почти колоссальная, как он думал.
8 декабря 1821 года Беранже предстал перед королевским судом. Обвинение опиралось на шестнадцать песен: «Вакханка», «Моя бабушка», «Марго» считались оскорблением нравственности; «Благодарственная молитва эпикурейца», «Нисхождение в ад», «Мой духовник», «Капуцины», «Приходские певчие», «Миссионеры», «Добрый Бог» и «Смерть короля Христофора» – оскорблением религии; «Принц Наваррский», «Простуда», тот же «Добрый Бог» и «Белая кокарда» – оскорблением королевской особы, а «Старое знамя» – призывом к ношению недозволенного знамени, – всего четыре обвинительных пункта.
С восьми часов утра все коридоры суда были переполнены любопытными. Избранная публика с трудом пробиралась в зал заседания. Тут были герцог Брольи, барон де Сталь, депутат эрского департамента Дюпон, представители магистратуры, множество дам и адвокатов в нарядах своего сословия. Все возраставшая толпа любопытных с невероятным шумом, ломая всякие преграды, ворвалась на конец в стеклянную галерею, служившую вестибюлем, а за тем в зал заседаний. Невозможно было представить себе, каким образом попадут в этот зал не только суд и присяжные, но и сам обвиняемый. Беранже в течение часа пробивался сквозь густую толпу, говоря, как известный преступник из анекдота на своем пути к виселице: «Господа, без меня не могут начать». Ему пришлось даже поспорить с жандармом, не желавшим пропускать обвиняемого, конечно, по недоразумению. Председатель суда Ларриё и советник Коттю, чтобы добраться до своих кресел, должны были воспользоваться окном. Наконец около полудня заседание открылось. Делу Беранже должно было предшествовать разбирательство дела о краже, но, за невозможностью ввести в зал одного важного свидетеля, это последнее было отложено. После опроса подсудимого Беранже о его имени, фамилии и звании – отставной канцелярский служитель министерства народного просвещения – был прочитан обвинительный акт, содержавший полные тексты «предосудительных» песен. Слово было дано генеральному адвокату Маршанжи. «Господа присяжные! – начал он свою речь. – Во Франции песня пользуется некоторого рода привилегией. Из всех видов поэтических произведений непристойность прощается ей охотнее, чем другим. Дух нации покровительствует ей, а любовь к веселью оправдывает. Спутницы радости, как она, скоропреходящие, эти легкие рифмы, казалось, вовсе не были способны сделаться оружием злорадства, и со времен Юлия Цезаря до кардинала Мазарини государственные люди очень мало опасались тех, которые пели… Такова песня или, лучше, такова была песня у наших отцов, потому что, по прошествии веков, когда во Франции умели еще смеяться, это испорченное дитя Парнаса эмансипировалось чрезвычайно странно. Благодаря безнаказанности, которою она пользовалась не один раз во время наших общественных волнений, враги порядка привлекли ее на свою сторону, согрели ее своим жаром и сделали пособницей бунта, выражением самых дерзких речей. С тех пор нечестивый сарказм сменил ее наивную веру, убийственная вражда вытеснила смех простодушной критики. Оскорбительные куплеты, при громе хохота, стали сыпаться на предметы нашего почтения и ободрять все крайности анархии: муза народных песен превратилась в одну из фурий наших общественных неурядиц…»
В этом стиле была составлена от начала до конца вся речь генерального адвоката. Оставляя в стороне вполне понятный пафос Маршанжи, следует признать его речь прекрасной характеристикой общественного значения произведений Беранже. Со своей стороны, защитник под судимого Дюпен-старший исходил из положения, что Франция всегда была «монархией, ограниченной песнями». Беранже был недоволен Дюпеном. Ему не нравилось стремление адвоката умалить значение песен. «Я предпочел бы, – говорил он, – быть повешенным врагами, чем утопленным руками друзей…» Большинство судей относилось к поэту вполне благосклонно. Однако присяжные обвинили Беранже. Три месяца тюремного заключения и пятьсот франков штрафа должны были охладить строптивую музу поэта. Во время процесса он чувствовал себя как нельзя лучше, отнюдь не в качестве жертвы, и пока он сидел на скамье подсудимых, в зале заседаний передавалась из рук в руки его новая песня «Прощание с деревней».
Беранже отбывал наказание в тюрьме Сен-Пелажи, в той самой камере, где незадолго перед тем сидел его коллега по «Минерве» Курье. Дни заключения он провел чрезвычайно весело. Весь Париж, говоря об интеллигентных кружках столицы, спешил засвидетельствовать ему свое уважение. То же самое делала остальная Франция: поэта осаждали письмами и даже вещественными знаками любви вроде дичи, вина и прочего. «Тюрьма испортила меня!» – шутил Беранже, покидая место своего заключения. До бесплатного помещения в Сен-Пелажи он квартировал в каморке почти без мебели, вроде той, о которой говорится, что она с Богом не спорит («Наша горница – с богом не спорница»). Зимою в комнате поэта царил такой холод, что замерзала вода в умывальнике, а когда ему приходила охота писать, обыкновенно в долгие зимние ночи, чтобы спастись от стужи, он заворачивался в старое одеяло.
Не смущаясь тюремным заключением, Беранже и там продолжал свои литературные занятия – и даже с особенным успехом. Он написал в Сен-Пелажи семь песен, среди них «Свободу» и «Мое выздоровление», замечательной сатирической силы.
Беранже оставалось всего два дня до выхода из тюрьмы, когда ему стало угрожать продолжение этого заключения еще на два года. Желая пополнить сборник своих песен, урезанный судебным приговором, поэт решил издать подробный отчет о своем деле и в нем инкриминированные ему песни. Генеральный прокурор Белляр увидел в этом факт рецидива, и против Беранже и его издателя было начато новое судебное преследование. Обвинение поддерживал все тот же Маршанжи; Дюпен, с непременным условием бесплатности своего труда, опять принял на себя защиту Беранже, а Бервиль защищал издателя Бодуана. Красноречие изменило на этот раз обвинителю, и Беранже был оправдан, хотя большинством всего в один голос. Через два дня он покинул тюрьму.
Единственным средством существования, каким он располагал в эту пору, был доход со второго издания песен. Значительную долю этих денег поэт израсходовал на Фюрси Парона и порядочную сумму передал также Юдифи: в минуты нужды она делала то же самое для поэта. В результате, отнюдь не собираясь еще умирать, Беранже далеко не чувствовал себя обеспеченным. Богач Жак Лафитт поспешил к нему на помощь и предложил работу в своем бюро, но поэт отказался. Он изложил мотивы этого отказа в «Советах Лизы». «Заняв место, предлагаемое вам другом, – говорила поэту красавица Лиза, – вы не посмеете, старина, при громе его денежных сундуков воспевать права, не согласные с его интересами…»
В 1825 году – уже при Карле X – Беранже издал третий сборник своих песен. Главою министерства был в это время Виллель. В обществе царило убеждение, что правительство намерено примириться с результатами Французской революции. Беранже не хотел разрушать этой иллюзии и потому устранил из сборника все, что могло показаться слишком резким. «Идите, дети, – говорит он в стихотворном предисловии к песням, – но не будите никого, мой доктор прописал мне покой…» Конечно, и здесь Маршанжи мог найти не один повод для своего красноречия, более того, поэт оказывался в новом сборнике несомненно явным рецидивистом. Он был обвинен по четвертому пункту за призыв к трехцветному знамени. Теперь он делает то же самое, он повторяет этот призыв. В песне «Старый сержант» поэт рисует воина из «стаи славной наполеоновских орлов». Искалеченный пулею вояка сидит на пороге хижины и, стараясь забыть несчастия, с улыбкой качает на руках двух близнецов-малюток… Вдруг он слышит гром барабана, он смотрит вдаль: там маршируют батальоны… Кровь приливает к лицу ветерана, его точно колет какая-то игла. «Увы! – вдруг восклицает он печально при виде знамени, реющего над войском. – Я не знаю этого знамени! Ах, дети, если вы отомстите когда-нибудь за отечество, Бог пошлет вам славную смерть!..» Едва ли нужно говорить, о каком знамени вздыхал солдат Наполеона… Смерть императора 5 мая 1821 года среди недовольства, царившего во Франции, окружала пленника Св. Елены настоящим ореолом мученика; тем опаснее казалось напоминание о нем в произведениях такого популярного писателя, как Беранже.
Несмотря на добровольную умеренность поэта, полиция осаждала типографию, где печатались его песни, и хлопотала о новых уступках. Ей помогал в этом деле издатель песен Ладвока. Он боялся процесса и вместе с ним разорения, а потому не переставал упрашивать Беранже отказаться от последнего куплета в песне «Галльские рабы»… Эти «Галльские рабы» были мрачной, но верной картиной Франции при Бурбонах. Точно похоронный звон, за каждым куплетом песни повторяется припев: «Enivrons-nous! Enivrons-nous!» (Будем пить! Будем пить!). Бедные рабы, дети древней Галлии, однажды вечером, когда все спали, похитили из погребов десятую долю своего владыки – притеснителя… Веселое настроение овладевает ими. «Ах! – говорит один из них. – Нам начинают завидовать, раб становится королем, когда спит его владыка. Будем пить! Будем пить! Будем пить!.. Всякая надежда погибла, перестанем считать наши беды, молот тирана кует на алтарях наши оковы… Всемогущий Боже, какой пример даете вы опекаемому вами миру?.. Жрец приковывает вас к колеснице королей. Будем пить! Будем пить! Будем пить!»… Именно эта песня внушила ужас издателю Беранже. Не добившись от писателя согласия на устранение последнего куплета «Галльских рабов», Ладвока устранил опасное место по своей воле. Судебное преследование против него все-таки было начато, но правительство до того боялось поднимать шум из-за этого, что все велось келейно, почти домашним образом, без привлечения к ответственности самого автора.
Куплет, который так пугал издателя, был обращен поэтом к депутату Манюэлю. «Любезный Манюэль, – говорилось там, – будь другое время, разве стал бы я рисовать мрачными красками картину наших дней? Ты был красноречив и мужествен, мы были глухи и неблагодарны. Но ради отчизны твоя добродетель презирает опасности…» У этого куплета своя история… Беранже познакомился с Манюэлем в 1815 году. Депутат и адвокат по профессии, этот друг поэта был одним из талантливейших представителей либеральной партии. Как оратор он отличался разительной логикой. Отсюда – усилия врагов лишить его звания депутата, окончившиеся скандальным для них выбором его в Вандее, в этом очаге роялизма. Роялисты не могли забыть этой обиды и в 1823 году, во время прений по испанским делам, добились удаления его из палаты. Манюэль настаивал тогда на невмешательстве, он говорил, что объявление войны Испании лишь ухудшит положение ее короля и даже грозит ему участью Людовика XVI. Он напомнил затем палате совсем забытые ею принципы великой Французской революции. Манюэля заглушили крики и настоятельные требования о его удалении. Напрасно президент палаты уверял противников Манюэля, что депутат Вандеи оставался все время в пределах своих парламентских прав, он должен был уступить желанию большинства и удалить Манюэля. Тот удалился, но пришел в палату на следующий день и объявил, что он уступит только силе. Сержант Мерсье, которому было приказано вывести депутата, отказался исполнить приказание. Манюэля вывели жандармы, а вместе с ним палату покинули все представители либеральной партии.
На этом кончилась политическая карьера Манюэля. Он умер в августе 1827 года. Беранже обязан ему тесным сближением с деятелями Июльской революции.
Вскоре после выхода из Сен-Пелажи Беранже принял участие в «Обществе друзей печатного слова» и в непродолжительном времени занял здесь первенствующее положение. Un faiseur des chansons – составитель песен – он был настоящим руководителем таких людей, как Тьер, Минье, Лафитт, Лафайет и другие. В 1824 году, вместе с Манюэлем и генералом Себастиани, Беранже составил план коалиции оппозиционных членов палаты и таким образом положил начало революционному движению 1830 года. Вся Франция кишела в это время различными тайными обществами, и Беранже отовсюду получал приглашения принять участие то в том, то в другом. Он предпочитал действовать явно и потому записался лишь в члены общества «На Бога надейся, а сам не плошай» («Aide-toi et le-ciel t'aidera»). Оно образовалось в 1824 году с главною целью – поддерживать в народе интерес к политике и образовать оппозицию ультрароялистам. Делами общества заведовал комитет сначала из четырнадцати, потом из двенадцати членов. Кроме Беранже, здесь сходились еще Тьер, Минье, Ремюза, республиканцы Кавеньяк, Бастид, Тома и другие. Органом общества был «Глобус», а затем, после прекращения «Глобуса» – «Национал». Беранже вел себя здесь вполне независимо. Когда сочлены благодарили его за сочувственные делу песни, он отвечал: «Не благодарите меня за песни, которые я пишу против наших врагов, благодарите за те, которые не пишу против вас…»
15 октября 1828 года Беранже издал четвертый сборник своих произведений. Министерство Мартиньяка создало в это время что-то вроде мира между партиями, и друзья поэта не советовали ему нарушать этот мир изданием песен. Советы были в большинстве небескорыстны: их податели метили в министры… Беранже был против слияния партий: это могло, по его мнению, укрепить Бурбонов, и этого-то именно он вовсе не желал. Он не принимает на этот раз никаких предосторожностей и вводит в сборник песни самого убийственного сарказма. Привлечение к суду было неизбежным, и в ожидании этого привлечения поэт отправился в небольшую поездку. 5-го декабря, находясь в Гавре, он узнал о начале процесса и поспешил в Париж. Правительство не менее друзей поэта боялось этого процесса. Наказание предвиделось тяжкое, тем сильнее должна была почувствовать Франция, насколько ненормальна окружающая ее атмосфера. Со своей стороны, Лафитт опасался за здоровье почти пятидесятилетнего поэта и стал хлопотать об уменьшении предстоявшего наказания. Министры не замедлили согласиться, они обещали минимум кары, если писатель откажется от защиты. Как только Беранже узнал об этих переговорах, он поспешил уведомить Лафитта о полнейшем несогласии идти на компромисс.
10 декабря 1828 года Беранже появился перед судом исправительной полиции. Обвинение опиралось на три песни: «Ангел-хранитель» рассматривался как оскорбление религии, «Коронация Карла X» и «Бесконечно малые» – как оскорбление личности короля и королевского достоинства вообще и как возбуждение ненависти и презрения к правительству. К величайшему неудовольствию короля, «инкриминированные» песни появились в вечерних газетах в самый день судебного процесса, и притом в газетах вовсе не либеральных. Один правительственный орган в виде извинения объявил, что решение по второму делу Беранже – дело о рецидиве 1822 года – признало законной такую перепечатку и что либеральные газеты все равно воспользуются этим правом. В этой «искренности» не хватало главного: номера с «инкриминированными» песнями разбирались публикой нарасхват и приносили в карманы издателей весьма солидное приращение…
Защитником Беранже на этот раз был начинающий адвокат по фамилии Барт. Дюпен опять предлагал свои услуги, но Беранже отклонил это предложение, так как прежний его защитник был в это время депутатом. Поэта приговорили к девяти месяцам тюремного заключения и к штрафу в 10 тысяч франков. По новому приговору Беранже отбывал наказание в тюрьме Лафорс с 21 ноября 1828 года. Денежный штраф был уплачен почитателями писателя, те же почитатели один за другим посещали поэта в его заключении, между прочим молодое поколение литераторов: Виктор Гюго, Дюма, Сент-Бев и другие. Сидя в тюрьме, Беранже продолжал писать свои песни; в песне «Четырнадцатое июля» он вспоминает годовщину разрушения Бастилии, в «Десяти тысячах франков» он жестоко смеется над своими врагами и больше всего над царившими в то время иезуитами. На эту же тему написана им песня «Кардинал и поэт». Представители духовенства, не довольствуясь назначенной карой, не могли простить поэту многократного внимания, которое он оказывал их сословию. Они хорошо помнили «Миссионеров» и теперь принялись метать молнии по адресу Беранже. Архиепископ Тулузский Клермон-Тоннер перед наступлением поста обнародовал обширное послание, где с благочестивым негодованием говорил о поэте. То же сделал проповедник в одной из главных церквей Парижа: он напомнил своим слушателям, что кара, постигшая Беранже на этом свете, – ничто в сравнении с муками, которые ожидают его в аду. Даже в маленькой Перонне – и там гремела «маленькая речь» по адресу нечестивого поэта…
29 сентября 1829 года Беранже покинул Лафорс. Почти через десять месяцев после этого Карл X лишился престола. Пока продолжалась борьба против Карла, Беранже не переставал ободрять защитников свободы, когда же победа революции стала очевидна, он первый пришел к мысли о передаче власти в руки герцога Орлеанского, Людовика-Филиппа. Симпатии Беранже были на стороне республики, но, умудренный опытом, он чувствовал, что Франция была еще не готова для этой формы правления. Он решил настаивать на промежуточной форме монархии, основанной на широких конституционных началах, и потому указал на Людовика-Филиппа.
Когда его идея осуществилась и большинство его друзей заняло более или менее высокие посты, он один, по собственному желанию, остался в стороне от этих устремлений. Напрасно новый король выражал желание видеть поэта как виновника своего избрания: автор «Придворного платья» остался тверд в своем давнем решении не облачаться в этот костюм. «Моя роль, – писал он в это время своей тетке в Перонну, – закончилась самым фактом торжества идей, которые я защищал и провозглашал на свой страх в течение пятнадцати лет; я скоро вернусь опять в неизвестность, о которой так часто сожалел с тех пор, как пользуюсь популярностью. Я сказал сейчас, что, лишая престола Карла X, лишили того же одновременно и меня. Это верно буквально: заслуга моих песен уменьшается на три четверти. Я вовсе не способен печалиться этим, раз вижу, что выигрывает от этого моя отчизна. Остаток моей славы я отдам на обеспечение ее счастья. Патриотизм всегда был у меня господствующей страстью, мой возраст ничуть не ослабил ее силы…»
Глава IV. Последние годы
Беранже вдали от политики. – Отказ от кандидатуры в академики. – Издание песен 1833 года. – Предисловие. – Значение идиллий Бера же. – Общий взгляд на песни Беранже. – Прозаические произведения писателя. – Припадок атавизма. – Взгляд Беранже на Июльскую монархию. – Вторая республика. – Отказ Беранже от политической деятельности. – Беранже и Наполеон III. – Последние песни. – Последнее жилище поэта. – Внешний вид поэта. – Смерть Юдифи. – Последние минуты поэта. – Похороны. – Заключение.
После 1830 года Беранже почти не живет в Париже. Он перебирается сперва в окрестности столицы, в Пасси у Булонского леса, потом в Фонтенбло и наконец в Тур. После многих лет борьбы он начинает искать покоя. Друзья, желая чем-нибудь отблагодарить поэта, предлагали ему записаться в кандидаты на академическое кресло. Но Беранже отказался. В письме к Лебрену он объясняет этот отказ нежеланием связывать себе руки. Чувство благодарности он всегда рассматривал как долг: избрание в Академию не замедлило бы наложить на него этот долг в отношении его коллег и вместе с тем чувствительные оковы – на его музыку. «А между тем, любезный друг, – писал он Лебрену, – я ношусь с про изведением, которое не может быть написано в академическом стиле…»
В 1833 году Беранже издал полное собрание своих сочинений. В прекрасном предисловии к этому изданию он излагает свое profession de foi. «Мои песни, – говорит он, – это я (Mes chansons, c'est moi)». Поэт был верным отражением современной ему эпохи, он брался за перо только тогда, когда чувствовал потребность высказаться. «Вы говорите, – пишет он Ламеннэ, – что есть люди, которые уже родятся с сердечною раной. Вполне ли вы уверены в этом? Я думаю иначе: мы, писатели, большие или малые, философы или составители песен, мы рождаемся с чернильницей в мозгу. Чернила не перестают наполнять ее, и если мы оставляем в покое наше перо, они льются через край и окрашивают наши чувства. Наше настроение делается мрачным, – люди, вещи кажутся нам черными, мир, вся природа внушают нам ужас. Но будем пользоваться жидкостью нашей чернильницы, станем исписывать бумагу. Наш ум сейчас же проясняется в таком случае, воображение становится чисто, а также и наши произведения, будь даже они произведениями мизантропа. Настроение духа, увлеченное работой, не замедлит залечить ту рану, о которой вы говорите…»
В первом собрании своих сочинений, 1815 года, оставшемся ненапечатанным, поэт хотел собрать свои идиллии. Как ни стар кажется этот род литературы, Беранже культивировал его на заре своей славы, отнюдь не повинуясь чувству подражания. Причина его склонности к идиллиям лежала гораздо глубже. Ученик Вольтера, он в такой же степени был поклонником Руссо. Он дополнял этих писателей одного другим и, не разделяя их крайностей, гармонично сливал в себе их стремления к благу человечества, столь различные, по-видимому, в своих направлениях. Как Вольтер, он ненавидел все, что стремилось сковать человеческую личность, если дело не шло о действительно желательных принципах – свободе, равенстве и братстве; как Руссо, он стоял за опрощение жизни. В этом источник его идиллий. Он понимал опрощение не в отрицании прогресса, а в равномерном распределении его благ, как бы далеко ни продвинулся он (прогресс) среди всех общественных сил. Простота жизни была для него синонимом свободы, равенства и братства. Беранже поэтому был слишком скромен, когда говорил, что его роль окончилась вместе с падением Бурбонов. Устранившись от непосредственного участия в делах Июльской монархии, он не переставал следить за судьбами отечества. По его мнению, для Франции наступал с этих пор новый период – период заботы о благе народа. «Эти господа, – писал он в ту пору, говоря о государственных деятелях, – хотят пользоваться услугами народа, а не служить ему самому». В песне «Жак», в издании 1833 года, поэт рисует печальное положение крестьянина, обремененного тяжестью налогов; в песне «Бродяга» он призывает к социальным реформам и ставит на первое место заботы о народном образовании. Будущий император Наполеон III, в эту пору либерал и даже «печальник народного горя», прислал поэту свою брошюру «Уничтожение пауперизма». «Идея, – отвечал ему Беранже, – которую вы вложили в эту краткую брошюру, одна из тех, которые наилучшим образом могут способствовать увеличению благосостояния рабочих и промышленных классов… Совершенно случайно, – и я горжусь этим, – мои собственные утопии странным образом совпадают с развиваемыми вами…» Итак, Беранже занимают в эту пору мечты о благосостоянии народа. Поэта так увлекают эти мечты, что, по его собственному выражению, «когда-то молчаливый», он становится «болтуном». «Любезный друг, – писал он Ламеннэ 14 февраля 1841 года, – улучшение судьбы низших классов и даже всех вообще классов народа становится моею постоянною мечтою, считать ее возможной – моя иллюзия, и отсюда та система, более или менее полная, которую я вам так долго развивал…» Сам мечтатель, Беранже с восторгом приветствует в песне «Безумцы» других мечтателей о всеобщем благе:








