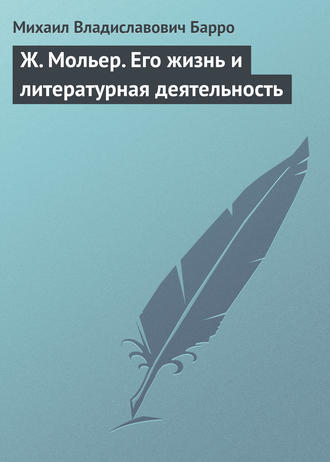
Ж. Мольер. Его жизнь и литературная деятельность
Глава IV. Мольер в Пти-Бурбоне и Пале-Рояле
Парижские театры: Пти-Бурбон, Маре и Отель де Бургонь. – Дебют Мольера. – Мольер в Пти-Бурбоне. – Общее устройство театра. – Время представлении. – Зрители.—Сотрудники Мольера. – Мадлена Бежар, Дебри и Дюпарк как актрисы. – Брекур. – Барон. – Лагранж и его «Регистр». – Начало спектаклей в Пти-Бурбоне. – Неудачи и причины их. – «Жеманницы». – Впечатление от пьесы. – Отель де Рамбуйе. – Екатерина Вивон и ее общество. – Язык жеманниц. – Предшественники Мольера по изображению жеманниц. – Обвинение Мольера в плагиате. – Запрещение «Жеманниц». – Предисловие Мольера к первому изданию их. – Возобновление пьесы. – Содержание «Жеманниц». – «Сганарель». – Разрушение Пти-Бурбона. – Мольер в Пале-Рояле. – Возобновление спектаклей. – Дон Гарсия. – «Школа мужей». – Недовольные в Во-Леконт. – Шарль Фуке. – Празднество в Во. – Падение Фуке. – Людовик XIV и Мольер.
Во время возвращения Мольера в Париж три театра оспаривали друг у друга внимание столичной публики: Маре, Отель де Бургонь и Пти-Бурбон. В Пти-Бурбоне играла итальянская труппа. Приглашение в Париж итальянцев было вызвано симпатиями к ним Анны Австрийской. Она так любила театр, что не могла воздержаться от посещения его даже во время траура по мужу и сидела в ложе, спрятавшись за спиной одной из своих дам. Итальянцы ставили большею частью феерии и балеты и первые познакомили парижан с чудесами театральной техники. Главною силою их труппы был Скарамуш, о котором говорили, что «Scaramuccia non parla, ma dice gran cose» («Скарамуш молча выражал многое»),– такова была слава его мимики.
В театре Маре играли веселую комедию, нечто близкое к фарсу. В репертуар входили здесь пьесы Скаррона, Томаса Корнеля и Дувиля, а среди актеров первое место занимал соперник Скарамуша по мимике и жестикуляции, Жоделе, которого называли жемчужиной среди «набеленных мукою».
В Бургонском отеле ставились трагедии Пьера Корнеля. Этим определялась общая физиономия театра. Его актеры говорили языком богов, изображая перед имени тою публикою Парижа героев Рима и Греции. Лучшими силами этой труппы считались Флоридор и Монфлери. Сын последнего увековечил себя доносом на Мольера.
Актеры театра Маре и Бургонского отеля назывались королевскими. Все три театра имели каждый свою публику и своих покровителей, и весть о прибытии в столицу труппы Мольера была встречена в этой среде далеко не благосклонно: неприязнь сдерживалась лишь расчетом на неудачу новичков.
Дебют Мольера был назначен на 26 октября 1668 года. В королевском дворце в это время не было специального помещения для театральных представлений; спектакли давались там или во дворцовых галереях, или в парке. Для Мольера была отведена одна из зал Лувра. Когда Людовик XIV в сопровождении герцога Орлеанского и принца Конде занял свое место, спектакль начался трагедией Корнеля «Никомед». Ни сам Мольер, ни его актеры не отличались в пьесах подобного склада, и «Никомед» прошел у них ни хуже, ни лучше, чем в Бургонском отеле. Трудно было надеяться привлечь особенное внимание короля и двора подобною игрою. Мольер сейчас же почувствовал, что счастье его труппы может погибнуть, и решился прибегнуть к последнему средству. Он вышел на сцену и, после соответствовавших случаю поклонов, обратился к королю с речью. Поблагодарив его за доставленное труппе счастье развлекать «величайшего в мире монарха», он просил Его Величество не отказать прослушать еще небольшой дивертисмент. Король согласился, и за «Никомедом» последовал «Влюбленный ученый». Настроение зрителей сразу переменилось. В пьесах, принадлежавших перу Мольера, дебютировавшая труппа была в своей сфере, и, подобно тому как она покоряла своею игрою провинциальных слушателей, на этот раз она покорила и столичных. Его Величество остался очень доволен и, покидая зал спектакля, разрешил труппе Мольера давать представления в театре Пти-Бурбон. На другой день король и его двор уехали на юг, где должны были пробыть три месяца. Таким образом, неудача Мольера могла иметь для него самые печальные последствия.
Театр Пти-Бурбон находился близ Лувра, в одной из галерей бывшего дворца коннетабля Бурбона, и представлял небольшое, но чрезвычайно изящное помещение. В шестнадцать сажен длиною и семь шириною, с потолком, усеянным лилиями, его зал охватывался с боков галереями, украшенными колоннами в дорическом стиле. Между колоннами устроены были ложи, а как раз против сцены – королевский трон. Гардероб театра состоял большею частью из подарков разных высокопоставленных лиц и отличался богатством и разнообразием; одно лишь освещение оставляло желать лучшего. Крестообразная люстра над сценой, уставленная свечами, свечная же рампа и несколько бра – вот и все источники света. В антрактах свечи гасили, в труппе Мольера эту обязанность исполнял Рагно, один из актеров «Блистательного театра», превратившийся из-за недостатка таланта и другой профессии в театрального чернорабочего. Свечи употреблялись сальные, и только на придворных спектаклях их заменяли восковыми. Тогда каждый актер получал фунт таких свечей, так называемых feux – выражение, сохранившееся и до сих пор в «Comédie Franсaise», с тою только разницей, что эта часть актерского гонорара выдается теперь деньгами. Перед сценою помещался оркестр, или, как говорили тогда, симфония, состоявшая из флейты, барабана и двух скрипок. Место суфлера отводилось в кулисах, и только с 1665 года его будка заняла место, на котором она устраивается и теперь. По особой лестнице со сцены можно было спуститься в партер, а оттуда – подняться на сцену. Этим обстоятельством пользовались выдающиеся лица и покровители театра: во время спектакля они располагались на сцене, на боковых скамейках, а нередко и прямо спиною к зрителям. Этот неудобный обычай был уничтожен в 1750 году. Представления во времена Мольера начинались вообще в четыре часа пополудни. Потом, из уважения к совпадавшей с этим часом церковной службе, их перенесли на пять… В комедии-балете Мольера «Недовольные» Эраст с негодованием рассказывает Ламонтаню о человеке с большими «канонами»[5], который с шумом забрался на сцену, не обращая внимания на игравших актеров, большими шагами прошел по самой ее середине и затем уселся спиною к зрителям, заслонив для них сцену. Недовольные зрители подняли шум, от которого всякий другой сгорел бы со стыда, но человек с большими «канонами» невозмутимо оставался на своем месте. Подобные явления не только не были редкостью в театрах того времени, но далеко не исчерпывали еще собою всех безобразий со стороны некоторой части публики. Во время представления «Психеи», в 1673 году, в зрительный зал Пале-Рояля ворвалась толпа юнкеров, человек в пятьдесят. Эти почитатели театра подняли такой гвалт, что продолжение спектакля оказалось невозможным, и Мольер послал к юнкерам актера Ла Ториллера с предложением возвратить им деньги, если причиною их шума – недовольство пьесой. Но молодые люди ответили на это, что они пришли в театр с намерением держать себя здесь как им вздумается. Еще во времена представления мистерий необходимость объяснять зрителям содержание пьесы с ее непонятной большинству латынью потребовала введения на сцену особого актера-«оратора», исполнявшего в то же время и роль успокоителя публики. Такие «ораторы» существовали и в дни Мольера. Вначале он сам исполнял эту обязанность в своем театре, но его склонность к саркастическим замечаниям лишь усиливала грубые выходки зрителей, не всегда ограничивавшихся словами, а потому место Мольера в этом случае занял со временем невозмутимый Лагранж.
После этого краткого обозрения театральной обстановки в пятидесятых годах XVII века необходимо остановиться на сотрудниках Мольера по сцене, на его труппе. Актрисы, девицы или замужние, одинаково назывались в то время барышнями, mademoiselles. Из числа таких «барышень» в труппе Мольера особенно выделялись девицы Бежар, потом Дюпарк и Дебри. Мадлена Бежар в 1658 году была уже сорокалетней женщиной. Она редко выступала на сцене, и лучшею ролью ее была роль Дорины. Небольшого роста, живая и чрезвычайно миловидная Дебри увлекала зрителей в роли Агнесы даже на шестом десятке лет своей жизни. Что же касается Дюпарк, то она играла с одинаковым успехом и комедии, и трагедии, а благодаря своей безукоризненной красоте с большим блеском выступала также и в балете.
Среди мужского персонала труппы лучшими актерами, не считая самого Мольера, были Брекур, Дебри и молодой Барон. Брекур так живо исполнял роль Алина в «Школе жен», что Людовик XIV на одном из таких представлений сказал про него: «Этот малый рассмешит и камни». Барон был выдающимся актером и даже писателем. Он примкнул к труппе Мольера уже в период ее парижских успехов и по смерти ее директора сменил его в роли Альцеста. Его исполнение считается выражением взгляда самого автора на тип Мизантропа. В детстве Барона эксплуатировал органист из Труа, некто Резен. Переезжая из провинции в провинцию, этот Резен поражал обывателей своим необыкновенным клавесином, который по желанию слушателя и без всякого участия Резена исполнял какие угодно пьесы. Весть об этом чуде дошла наконец и до Людовика XIV. Он приказал привести к нему органиста и, когда тот познакомил его со своим клавесином, чрезвычайно напугав им королеву, повелел открыть магический инструмент и тем разоблачил секрет органиста. Внутри клавесина сидел мальчик, исполнявший пьесы по требованию публики, и этот мальчик был Барон. Мольер в это время лишился сына; он живо заинтересовался судьбою Барона и взял его к себе в дом. Он заменил ему отца и создал из него замечательного актера.
Не отличаясь выдающимся талантом, среди сподвижников Мольера заслуживает особенного внимания Шарль Варле де Лагранж. Это автор известного уже нам «Регистра». Сухая, сжатая хронологическая запись спектаклей с отметкою выручки и доли в ней каждого актера, «Регистр» Лагранжа то тут, то там прерывается указаниями на какое-нибудь радостное или печальное для труппы событие. За недостатком красноречия или стесняясь выражать свои чувства, Лагранж изображает эти последние не словами, а красками. Начало представлений в Пти-Бурбоне, разрешение играть в Пале-Рояле, день свадьбы Мольера он отмечает на поле «Регистра», в знак удовольствия, небольшим голубым кругом; он опечален запрещением «Тартюфа» и рядом с днем этого события рисует черный ромб, зато радостное для него рождение у Мольера дочери Мадлены он обозначает маленьким розовым крестиком; 12 декабря 1672 года жена Лагранжа родила близнецов. Отец был и доволен, и недоволен этим обстоятельством; он так и выразил свои чувства в данном случае, пометив приращение своего семейства, как рождение Мадлены, тоже крестиком, но наполовину черным, наполовину розовым… Когда в двадцатых годах XIX века начались попытки создать исторически верную биографию Мольера, «Регистр» Лагранжа оказался одним из драгоценнейших источников. Самая сухость его была в этом случае неоценима, сухость летописца, не вдающегося в личные рассуждения и не затемняющего ими действительного положения вещей… Из этого же документа можно вывести также заключение об отношениях Мольера с его труппой. Он не был эгоистичным антрепренером, берущим себе львиную долю; все поступления театральной кассы, за вычетом расходов, делились поровну между всеми актерами, так что женатые получали больше лишь потому, что жены их тоже были актрисы. Из той же живости, с которою Лагранж, хотя и красками, отзывался на горе и радости Мольера, сам собою напрашивается другой вывод, характеристика знаменитого писателя как человека, не на словах только призывавшего к уважению личности. Его произведения полны тою же любовью к человечеству, которую распространяла вокруг себя и личность самого автора, и наоборот, из-под пера его никогда не вырывалось ни одного слова, которое не шло бы от сердца.
Спектакли в Пти-Бурбоне, по свидетельству Лагранжа, начались 3 ноября 1658 года. Короля не было в Париже; герцог Орлеанский, обещавший каждому актеру Мольера триста ливров пенсии, вскоре забыл свое обещание, а вместе с тем и труппу своего имени, – при таких обстоятельствах, началась парижская деятельность нашего героя. Любители театра обращали мало внимания на новую труппу, их равнодушие не могли победить ни «Шалый», ни «Любовная досада» – комедии, собравшие столько аплодисментов в провинции. Причина такого холодного приема заключалась главным образом в том, что в Пти-Бурбоне вместе с труппою Мольера подвизались еще и итальянцы. Они играли три раза в неделю, в дни, когда парижане обыкновенно посещали театры, тогда как очередь Мольера приходилась на необычное время, и, следовательно, посещение его спектаклей нарушало привычки населения. Рутина сказывалась в данном случае и в других отношениях. Соперничавшие с Мольером труппы с течением времени сделались местами съезда известных слоев общества, где их представители и представительницы блистали своими нарядами. Маркизы и корчившие из себя маркизов буржуа, самая богатая часть публики, – все спешили в театр Маре, Бургонский отель или к итальянцам, потому что там собирался «весь город». Любовь к искусству была здесь на втором плане; феерии и балеты итальянцев волновали массу гораздо больше, чем пьесы Корнеля. Так прошел для труппы Мольера первый год ее парижской жизни, год, напоминавший собою печальную историю «Блистательного театра».
18 ноября 1659 года Мольер поставил на сцене новую свою комедию «Les précieuses ridicules» («Жеманницы»). Едва ли не одни соперники следили до этого времени за деятельностью его труппы перед небольшою кучкою случайных посетителей, большею частью скромных буржуа; теперь, с новою пьесою, положение дела сразу переменилось. Успех «Жеманниц» был громадным. По словам современника де Визе, на 80 верст в окрестностях столицы все говорили об этом новом произведении, все спешили его видеть. Интерес к комедии увеличивался еще тем, что ни для кого не было тайной, куда метил ее автор: все хорошо знали отель Рамбуйе и царившее там направление. С первого же представления «Жеманниц» скромные поступления театральной кассы Мольера сразу повысились до 1400 ливров, и сорок раз подряд пьеса встречалась с одинаковым энтузиазмом.
О впечатлении, произведенном ею на парижское общество, можно судить по стихотворной рецензии Лоре. По словам этого писателя, никогда ни одна комедия не вызывала такого стечения самой разнообразной публики под украшенным лилиями потолком Пти-Бурбона: ни «Эдип» Корнеля, ни пьесы Рийе. «Жеманницы» нравились и глупым, и умным, и сам автор рецензии, заплатив тридцать су, смеялся более чем на десять пистолей, слушая остроумные реплики пьесы. Этим веселым настроением впечатление от пьесы не исчерпалось. Рассказывают, что на первом же представлении какой-то старик закричал из партера: «Courage, Molière, voilà de la véritable comédie!» («Смелей, Мольер, вот настоящая комедия!»), а писатель Менаж, схватив за руку своего коллегу Шаплена, как и он, повинного в жеманстве, будто бы призывал его сжечь, что они почитали, и почтить, что сжигали… В этих анекдотах как нельзя лучше отразилось общественное значение «Жеманниц». После пространного фарса, каким был «Шалый», и романической «Любовной досады» Мольер возвысился в новой пьесе в ранг писателей не только художников, но и моралистов, и эта новая струя все шире и шире разливается с тех пор в его лучших произведениях… Но обратимся к цели, куда направлялись удары его сатиры, к отелю Рамбуйе.
Под этим названием всему Парижу был известен дом Екатерины Вивон, маркизы Рамбуйе, одной из образованнейших женщин XVII века. С обворожительною наружностью она соединяла возвышенный ум и прекрасное сердце; ее салоны были поэтому центром притяжения всех образованных людей того времени. Писатели, ученые и аббаты – все стремились сюда, в эту своего рода республику ума, на которую не подымалась «отеческая» рука Ришелье. Здесь можно было встретить Малерба, Ракана, Ожье де Гомбо, Вуатюра, известных уже нам Менажа и Шаплена. Никто не мог рассчитывать на славу, если его права на нее не признавались в отеле Рамбуйе; и сам автор «Сида», Пьер Корнель, тоже бывал в этом отеле, прежде чем сделался знаменитым писателем. Разговоры вращались здесь главным образом около литературы и искусства, но мало-помалу беседы свелись на одну тему – любовь. Екатерина Вивон превратилась в Артемизу, простой и ясный язык сменился цветистою риторикой, и знаменитый отель Рамбуйе сделался настоящим рассадником жеманства и чопорности, этой новой формы донкихотства. «Не хороните моих надежд в могиле ваших лживых обещаний», «вы подкладываете дрова вашей любезности в пылающий очаг моей дружбы», «я нагружаю эти слова на корабль моих губ, чтобы переплыть бурное море вашего внимания и достигнуть счастливой гавани ваших ушей» – такие и подобные им выражения сплошь и рядом наполняли произведения записных поклонников утонченного обращения, среди которых, как звезда первой величины, блистала Скюдери, на языке жеманников – Сафо, со своим романом «Клелия». К этому роману была приложена автором «карта нежности».
Мольер не первый обрушился на жеманство. Еще во времена Ришелье и по внушению этого кардинала-политика Демаре осмеивал их в своей комедии «Мечтатели», а в 1656 году в театре Маре была поставлена трехактная пьеса «Женская академия», трактовавшая подобную же тему. Около этого же времени появился роман «Жеманница» аббата де Пюра (в отеле Рамбуйе тоже водились духовные лица, живописавшие нюансы любви) – того самого аббата де Пюра, которому Корнель писал из Руана о труппе Мольера. Дружба Корнеля и де Пюра и благо склонность их к театру Маре заставляет предполагать и общность взглядов обоих писателей на парижских мод ниц. Корнель сам, как мы говорили, бывал в отеле Рамбуйе, он ушел оттуда с глухим предубеждением против этого печального направления и, вероятно, во время руанских свиданий познакомил Мольера с особенностями этого общества и своим отрицательным отношением к нему внушил автору «Любовной досады» желание осмеять нелепости этого утонченного стиля.
Есть сведения о том, что итальянцы, соседи Мольера по Пти-Бурбону, как раз в период этого соседства тоже осмеивали в своих фарсах последователей маркизы Рамбуйе. Это дало повод врагам Мольера обвинять его в плагиате. Едва ли нужно оспаривать подобное мнение. Итальянцы были чужеземцами. Они плохо понимали французскую речь и еще меньше – склад французского общества; жеманные дамы в их изображении далеко не были поэтому рельефными фигурами. К тому же то, что они играли на своей сцене, далеко не могло быть названо пьесой в точном смысле слова; это было нечто подвижное, постоянно менявшееся, как устное предание. Но даже допуская, что Мольер заимствовал сюжет своего произведения у кого бы то ни было, все-таки приходишь к тому выводу, что он создал в своей новой пьесе нечто небывалое и поразительное, иначе нечем объяснить впечатление, произведенное ею. Ни игра итальянцев, ни роман де Пюра, ни другие попытки изобразить этих героинь парижской жизни не вызывали ничего подобного. Очевидно, у Мольера все было неожиданно и поэтому ново.
Говорят, что, желая скрыть свое неудовольствие, сама маркиза Рамбуйе посетила театр Мольера; но ее спокойствие было наружным. Сатира Мольера вооружила против ее автора всех задетых ею, а их раздражение, в свою очередь, не замедлило выразиться запрещением пьесы. Мольер воспользовался последним обстоятельством, чтобы сгладить слишком резкие места пьесы, а к отдельному изданию ее прибавил предисловие с целью позолотить пилюлю. «Самые лучшие вещи, – писал он в этом предисловии, – не избегают подражания со стороны плохих обезьян, заслуживающих насмешек, и настоящие précieuses напрасно обижаются, когда на сцене выводят их плохих подражательниц».
В скором времени после запрещения «Жеманницы» опять были разрешены к представлению. В этой отмене первого распоряжения могла выразиться воля самого короля. Его не было в Париже, но весть о новой пьесе скоро дошла до его окружения, а от них до него, и, по некоторым данным, заинтересованный Людовик XIV приказал доставить ему экземпляр пьесы. Это небольшая одноактная вещица, всего на получасовой спектакль, картинка из жизни двух девушек-провинциалок. Они наслышались об отеле Рамбуйе, начитались произведений вроде «Клелии» Скюдери и в подробностях изучили приложенную к ней «карту нежности». Они ни за что не хотели поэтому выходить замуж иначе, как после долгих сцен ревности и вздохов, пересыпанных цитатами из обширного лексикона жеманства. Совсем другой был план Горжибюса, отца одной и дяди другой. Он находил, что девушки могут выйти замуж гораздо проще и подыскал им подходящих женихов. Но те ни за что не мирились с таким простым исходом, и оскорбленные их холодностью женихи подослали к ним своих слуг, нарядив их предварительно маркизами. Молодые девушки тотчас же поддались на обман. Они приняли переряженных слуг за настоящих посетителей высшего общества, и только появление отвергнутых женихов, затеявших эту комедию, обнаружило печальную для них истину. Роль маркиза Маскариля исполнял сам автор пьесы. Он не упустил при этом случая задеть вместе с жеманными дамами и маркизов. Они щеголяли своими костюмами, последним словом утрированной моды, и Мольер-Маскариль, по описанию Дежардена, появился на сцене в громадном парике, концы которого касались пола при каждом реверансе мнимого маркиза, и в самых невероятных «канонах».
Будучи директором театра, в заботах о репертуаре Мольер часто писал свои произведения на скорую руку, отсюда – разность их достоинств. В то время как одни из них поражают читателя своею художественностью и глубиною замысла, другие являются только веселыми «вещицами». Эти последние часто содержат уже бледные абрисы его шедевров, но их собственная ценность от этого не увеличивается. К числу таких пьес принадлежит «Сганарель». Она появилась на сцене 28 мая 1660 года и носит еще и другое заглавие: «Мнимый рогоносец» («Le cocu imaginaire»), и этим заглавием определяется ее содержание. В художественном отношении эта пьеса гораздо ниже «Жеманниц», но по обилию остроумных слов и смешных положений она нравилась зрителям и почти не исчезала из репертуара.
Успех «Жеманниц», поддержанный также успехом «Сганареля», предопределил наконец прочное положение труппы Мольера. Она одна уже играла теперь в театре Пти-Бурбон, так как равнодушие публики перенеслось с нее на итальянцев, и те покинули Париж. Но среди этих успехов на Мольера совершенно неожиданно обрушилась неудача. Интендант королевских дворцов вдруг довел до его сведения, что Пти-Бурбон подлежит ломке и что представления в нем должны быть немедленно прекращены. В этом распоряжении не без основания предполагают связь с неудовольствием, вызванным во влиятельных кружках сатирою Мольера на жеманниц. Ее автор начинал пожинать первые плоды своей борьбы с общественными недостатками. После стольких трудов, когда ему уже улыбнулась удача, он опять оказался накануне разорения. Найти новое помещение для театра, не говоря о затратах, представлялось делом нелегким, и враги писателя верно рассчитали в этом отношении свой удар. В то же время соперничавшие труппы начали осыпать актеров Мольера предложениями перейти к ним. Здесь еще раз мы находим доказательство симпатий, которые возбуждал к себе Мольер среди близких к нему людей. В эту тяжелую пору, рискуя остаться без заработка, ни один актер не покинул своего директора, все решили терпеливо выжидать окончания печального кризиса. Чтобы скорее выйти из него, Мольер обратился к королю с просьбою о новом помещении для труппы. Ответ пришел благоприятный: король разрешил Мольеру давать представления в Пале-Рояле. Театральный зал здесь был гораздо обширнее, чем в Пти-Бурбоне. Он был устроен кардиналом Ришелье, имевшим в виду познакомить здесь высшее общество Парижа со своею комедией «Мирам», но вскоре после смерти сановного писателя это помещение было заброшено и пришло в ветхость. Его крыша протекала, а поддерживавшие ее стропила частью подгнили; таким образом, прежде чем приступить к представлениям, необходимо было произвести значительный ремонт. Король приказал исполнить эти работы за казенный счет, но и Мольеру пришлось затратить на это 4 тысячи ливров, часть которых ему уплатили, впрочем, итальянцы. Они опять вернулись в Париж и приютились в том же Пале-Рояле. Чтоб защитить зрительный зал от дождя, над ним протянули голубое полотно, укрепив его веревками, затем из Пти-Бурбона были перенесены ложи. Сделать то же самое с декорациями Мольер не мог, так как они не принадлежали ему, и, вероятно, из боязни, что король даст разрешение Мольеру воспользоваться этими декорациями, их вскоре уничтожили совсем. Пока продолжался ремонт Пале-Рояля, труппа Мольера давала представления при дворе, у принцев и других высокопоставленных лиц, избегая таким образом тяжелых последствий вынужденной безработицы. Наконец 21 января 1661 года, через три месяца после закрытия театра, Мольер начал спектакли в Пале-Рояле. Несколько дней спустя, 4 февраля, его репертуар обогатился новою пьесой «Дон Гарсия Наваррский», заимствованною Мольером у Чигоньини. Пьеса не имела успеха: она была слаба и в литературном, и в сценическом отношении.









