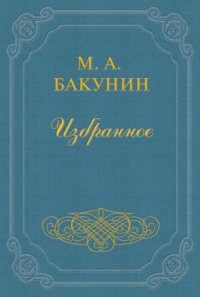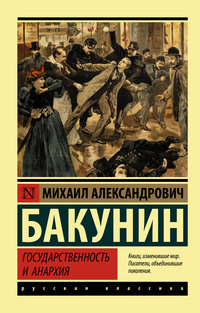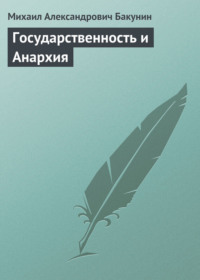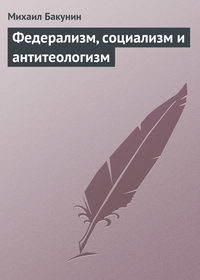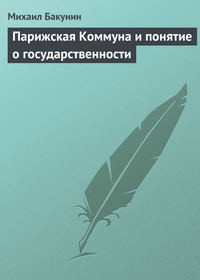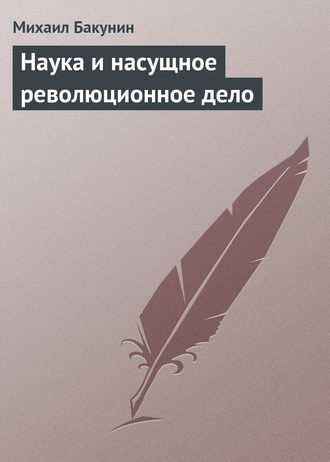
Наука и насущное революционное дело
Мало-помалу, и тем сильней, чем дольше, большинство эксплуататоров по рождению и по унаследованному ими положению в обществе начинают верить серьезно в свои исторические и прирожденные права. И не только они сами, массы эксплуатируемых ими, подвергаясь влиянию той же традиционной привычки и тлетворному действию злоумышленных религиозных учений, начинают также верить в права своих эксплуататоров и мучителей и продолжают верить в них до тех пор, пока мера их мук не переполнится и страдания всякого рода не пробудят в них другое сознание.
Это новое сознание пробуждается и развивается в народных массах чрезвычайно медленно. Века проходят, прежде чем оно совсем не пробудится; но зато уж когда оно пробудилось, оно ломает все, никакая сила не может ему воспротивиться. Поэтому главная задача государственной мудрости состоит именно в том, чтоб помешать всеми средствами пробуждению разумного сознания в народе или, по крайней мере, чтоб замедлить его донельзя.
Медленность же развития разумного сознания в народе происходит от двух главных причин. Во-первых, народ задавлен тяжелой работой и еще более тяжкою заботой о жизни. А во-вторых, он самим политическим и экономическим положением своим обречен на невежество.
Нищета, голод, изнурительная работа и беспрерывное притеснение достаточны, чтобы забить самого сильного и самого умного человека. Присоедините ко всему этому невежество, и вы подивитесь, что этот бедный народ, хоть самым медленным шагом, двигается еще вперед и не становится, напротив, год от году глупее.
Знание – сила, невежество – причина общественного бессилия. Еще бы ничего, если б в обществе все были бы погружены в одинаковое невежество. Тогда кто от природы умнее, тот был бы и сильнее. Но ввиду вперед двигающегося образования государственных сословий сама натуральная сила ума народного тратит свое значение. Что такое образование, если не умственный капитал, сумма умственных трудов всех прошедших поколений? Где ж невежественному уму, как бы он ни был силен от природы, выдержать борьбу против коллективной умственной силы, выработанной веками? Вот почему мы видим нередко, что умный человек из народа пасует перед образованным дураком. Дурак поражает его не своим умом, а чужим, приобретенным. Это случается, впрочем, только тогда, когда умный мужик встречается с образованным дураком в вопросах для него неизвестных. На своей собственной почве, им досконально изведанной, мужик в состоянии забить десяток и целую сотню образованных дураков. Но в том-то и беда, что вследствие невежества область народного мышления чрезвычайно тесна. Редкий умный мужик видит далее своей деревни, в то время как самый ограниченный человек, получивший образование, приучается обнимать своим слабым умом интересы и жизнь целых стран. Невежество главным образом мешает народу сознать свою повсеместную солидарность, свою громадную численную силу; мешает ему сговориться и создать организацию бунта против организованного грабежа и утеснения – против государства.
Всякое благоразумное государство употребит поэтому всевозможные средства для того, чтоб поддержать в народе это драгоценное невежество, на котором зиждется вся его сила и самое существование.
Точно так же, как в государстве народ обречен на невежество, точно так же сословия государственные самим положением своим призваны двигать вперед дело государственной цивилизации. До сих пор не было другой цивилизации в истории, кроме цивилизации сословной. Народ настоящий, чернорабочий народ был для нее до сих пор только орудием и жертвою. Он черной и тяжелой работой своей создает материал для общественного просвещения, которое, в свою очередь, увеличивая все более и более преобладание государственных сословий над ним, вознаграждает его нищетою и оковами.
Если б сословное просвещение подвигалось постоянно вперед, а народное сознание было бы лишено всякого развития, то рабству народному не было бы конца, напротив, оно должно бы было становиться с каждым новым поколением все глубже и глубже. К счастью, ни сословия не подвигаются постоянно вперед, ни народ ни остается недвижим. В самом ядре сословного просвещения есть червь, сначала еле заметный, но разрастающийся вместе с ним и разъедающий и разрушающий его под конец совершенно. Червь этот не что иное, как привилегия, неправда, эксплуатирование и притеснение народа, составляющие самую суть всякого сословного существования и поэтому также и всякого сословного сознания.
В первые, героические времена сословной жизни все это мало чувствуется и еще менее сознается. Эгоизм сословный прикрывается в начале истории героизмом лиц, жертвующих собою отнюдь не для пользы народной, но для пользы и для славы сословия, составляющего для них весь народ и за которым они видят только врагов или рабов. Таковы были пресловутые греческие и римские республиканцы. Но героические времена скоро проходят, наступают за ними времена прозаического пользования и наслаждения, когда привилегия, являясь в своем настоящем виде, порождает эгоизм, трусость, подлость и глупость. Сословная сила обращается мало-помалу в дряхлость, в разврат и в бессилье.
В этот период падения сословий выделяется из него меньшинство людей неиспорченных или менее испорченных – людей живых, умных и великодушных, предпочитающих правду своим собственным интересам и додумавшихся до права народного, попранного сословными привилегиями. Они обыкновенно начинают с того, что пытаются тщетно пробудить совесть в сословии, к которому принадлежат по рождению; потом, убедившись в тщетности своих усилий, поворачиваются к нему спиною, отвергаются от него и становятся апостолами народного освовождения и народного бунта. Таковы были наши Декабристы.
Если Декабристы не имели успеха, так это по двум главным причинам. Во-первых, они все-таки были дворяне; и, не имея никакого общения с народом, они плохо знали, что ему нужно. Во-вторых, потому, что они, вследствие той же причины, не умели к нему подойти, не умели пробудить в нем страсть и веру, говорили ему своим языком свои, а не народные мысли. Настоящими предводителями народного освобождения могут быть только люди из народа. Но каким образом из самой глубины народного невежества могут выработаться освободители народные?
По мере того как ум и сила сословные падают, подымается народный ум, а за ним и народная сила. В народе, как бы ни развивался он медленно и хотя книжное образование для него недоступно, движение вперед никогда не останавливается. У него есть две настольные книги, по которым он учится беспрестанно: первая – горький опыт, нужда, притеснения, обиды, грабеж и мучения, претерпеваемые им каждодневно со стороны правительства и сословий; другая книга – это живое, изустное предание, переходящее от поколения к поколению и становящееся с каждым новым поколением полнее, разумнее и шире. За исключением весьма редких моментов, в которые народ, выведенный из терпения, выходил сам, собственным движением на сцену, народ играл до сих пор во всех государствах гораздо более роль зрителя, чем актера, в исторической драме, а если и был отчасти актером, так вроде тех безгласных, которых выводят на сцену для представления войска или народа. В борьбе сословных партий между собою народ, разумеется, был всегда призываем на помощь каждою, и каждая, пока в нем нуждалась, обещала ему, разумеется, всевозможные блага; но лишь только борьба кончалась победой той или другой партии или их обоюдною сделкою, обещания естественным образом забывались; мало того, народ должен был вознаградить и той и другой все убытки. Примирение или победа не могла иначе совершиться, как на его исключительный счет. Впрочем, ведь иначе и быть не могло, и всегда будет так, пока не изменятся совершенно экономические и политические условия общественной жизни.
О чем могут спорить сословные партии между собою? Только о богатстве и власти. Что ж такое богатство и власть, как не два неразлучные вида эксплуатирования народного труда и народной неорганизованной силы. Все сословные партии богаты и сильны только силою и богатством, уворованными ими у народа. Значит, поражение какой бы то ни было партии есть поражение известной части силы народной; убыток и разорение ее непременно есть разорение такой же части народного богатства. Торжество же и обогащение торжествующей партии не только ничего не приносит народу, но ухудшает его положение; во-первых, потому что он всегда один платит все издержки борьбы; а во-вторых, потому что победившая сторона, не имея более соперника в деле эксплуатирования народной жизни и силы, начинает его эксплуатировать с гораздо большею энергиею и бессовестностью.
Таков опыт, сделанный всеми народными массами от начала самой истории, и народ, этот многовековой ученик, доходит, наконец, до разумного сознания, до ясного понимания вещей рядом подобных опытов, из которых каждый стоил ему невесть сколько мучения, разорения и крови.
В основании всех исторических вопросов, национальных, религиозных и политических, лежал всегда не только для чернорабочего народа, но и для всех сословий и даже для государства и церкви, самый важный, самый существенный вопрос экономический. Богатство было всегда и до сих пор остается непременным условием для осуществления всего человеческого: власти, силы, ума, знания, свободы. Это до такой степени справедливо, что самая идеальная церковь в мире, христианская, проповедующая презрение к благам мира сего, едва только успела победить язычество и на развалинах его поставить свое могущество, как уж устремила всю энергию свою на приобретение богатства. Политическая сила и богатство неразлучны. Кто силен, тот имеет все средства для приобретения богатства и непременно должен стремиться к приобретению его, потому что без богатства он долго не сохранит своей силы. Кто богат, тот может и непременно должен стать сильным, потому что если у него не будет силы, сила чужая отнимет у него богатство. Чернорабочий народ во все времена и во всех странах был бессилен, потому что был в нищете, и оставался он нищим потому, что у него не было организованной силы. Мудрено ли после того, что во всевозможных вопросах он видел и видит главным образом и прежде всего вопрос экономический – вопрос о хлебе.
Чернорабочий народ, эта постоянная жертва цивилизации, этот страдалец истории, далеко не понимал и не видел его всегда, как видит и понимает теперь, но зато во все времена чувствовал его одинаково сильно, и можно сказать, что посреди всех исторических вопросов, вызывавших его доселе на более или менее страдательное содействие, во всех инстинктивных стремлениях и попытках его на религиозном или на политическом поприще он чувствовал только его и стремился только к его разрешению. Всякий народ, взятый в своей совокупности, и всякий чернорабочий человек из народа – социалист по своему положению. А эта манера быть социалистом несравненно серьезнее манеры тех социалистов, которые, по выгодной обстановке всей своей жизни принадлежа к высшим сословиям, пришли к социалистическим убеждениям только путем науки и мысли.
Я отнюдь не пренебрегаю ни наукой, ни мыслью. Знаю, что ими, главным образом, человек отличается от всех других животных, и признаю их за единственные путеводные звезды всякого человеческого преуспеяния. Но знаю вместе с тем, что они холодно светят, когда не идут рука об руку с жизнью, и знаю, что самая правда их становится бессильною и бесплодною, когда она не опирается на правду в жизни. Противуречие с этою последнею правдою обрекает нередко и науку, и мысль на ложь, на софизм, на служение неправде – или, по крайней мере, на постыдную трусость и бездеятельность. Ведь ни наука, ни мысль не существуют особо, в абстракте, они проявляются только в живом человеке, а всякий живой человек – существо нераздельное, которое не может в одно и то же время искать строгой правды в теории и пользоваться плодами неправды на практике. Во всяком, даже самом искреннем социалисте, принадлежащем не по рождению – это бы еще ничего, мало ли какие перемены могут случаться с ним после рождения! – но по настоящей жизни своей к какому-нибудь из привилегированных, т. е. народ эксплуатирующих, сословий, вы непременно найдете это противуречие между мыслью и жизнью; противуречие это непременно парализирует его, делает его более или менее бессильным, и он не может сделаться иначе социалистом вполне искренним и могучим, как разорвавши решительно все связи с привилегированным или эксплуатирующим миром и отказавшись от всех выгод его.
Чернорабочему человеку не от чего отказываться, не от чего отрываться – он социалист именно по своему положению. Вечно нищий, обиженный и забитый, он по инстинкту, на факте – естественный представитель всех нищих, обиженных и забитых, – а что такое весь социальный вопрос, если не вопрос об окончательном и всецелом освобождении всех нищих, обиженных и забитых? Существенная разница между образованным социалистом, принадлежащим, хоть даже по одному образованию своему, к государственно-сословному миру, и бессознательным социалистом из чернорабочего люда состоит именно в том, что первый, желая быть социалистом, никогда не может сделаться им вполне, в то время как последний, будучи вполне социалистом, не подозревает о том и не знает, что есть социальная наука на свете, и даже никогда не слыхал самого имени социализма. Один знает, но не есть, другой есть, но не знает. Что лучше? По-моему, быть лучше. Из отвлеченной мысли, не сопровождаемой жизнью и не толкаемой жизненной необходимостью, переход в жизнь, можно сказать, невозможен. Возможность же перехода бытия к мысли доказывается всею историею. Она доказывается именно историею чернорабочего люда.
Весь социальный вопрос сводится на вопрос чрезвычайно простой. Толпы народные обречены были до сих пор, всегда и везде, на нищету и на рабство. Они составляли везде и всегда огромное большинство в сравнении с притесняющим и эксплуатирующим их меньшинством. Значит, численная сила была всегда, как и теперь, на их стороне. Почему ж не воспользовались они ею до самой настоящей минуты для того, чтоб свергнуть с себя разорительное и ненавистное иго? Можно ли представить себе, чтоб было время, когда они его любили, когда оно им не было тяжко? Это было бы противно здравому смыслу, противно самой природе. Все живое стремится к благосостоянию и воле, и для того, чтоб ненавидеть своего притеснителя или грабителя, не нужно даже быть человеком, достаточно быть животным. Следовательно, долготерпеливость масс объясняется другими причинами.
Одна из главных причин, несомненно, заключается в народном невежестве. Вследствие этого невежества народ не обнимает себя как солидарную и в своей солидарности всемогущую массу, он разъединен в своем понятии о себе, точно так же как под влиянием гнетущих его обстоятельств разъединен в жизни. Эта двойная разъединенность есть главный источник его ежедневного бессилия. Вследствие этой разъединенности в народе, невежественном или стоящем на низшей степени исторического образования или исторического коллективного опыта, каждое лицо, каждая община, каждая волость видит в претерпеваемых ими бедах и притеснениях явление личное или частное, а не общее явление, касающееся всех одинаково и долженствующее поэтому всех связать в едином и общем предприятии, отпоре или деле. Напротив, область смотрит на область, община на общину, семья на семью и лицо на другое лицо как на врага, готового его притеснить и ограбить, а пока продолжается это взаимное отчуждение, всякой еле-еле сговорившейся и организованной партии, касте или государственной власти, представляющей собою сравнительно даже самое незначительное число людей, весьма легко терроризировать, надувать и притеснять миллионы чернорабочих.
Вторая причина, также непосредственное последствие того же самого невежества, состоит в том, что народ не видит и не знает главных источников своих бедствий и ненавидит часто только проявления причины, а не самую причину, точно так же как собака нередко кусает палку, которою ее бьет человек, а не человека, бьющего ее палкою. Поэтому правительствам, кастам, партиям, основывавшим доселе все существование свое на заблуждении народном, было чрезвычайно легко обманывать народ, эту постоянную жертву всех государств и всякого государствования. Не зная настоящих причин своих бед, народ, разумеется, не мог знать и тех путей, и тех средств, которыми он может от них избавиться, а прибегал или, лучше, давал себя увлекать от одного ложного пути на другой, столько же ложный, и, ища средств для спасения там, где их не было и быть не могло, сам служил средством против себя для своих эксплуататоров и притеснителей.
Таким образом, народные массы, подвигаемые все тою же самою социальною потребностью улучшения своей жизни и освобождения от нестерпимого гнета, давали себя увлекать из одной религиозной бредни в другую, из одной политической формы, созданной для их притеснения, в другую, готовящую им притеснение такое же и нередко и худшее; точно человек, мучимый болезнью, поворачивающийся с бока на бок в надежде, что на другом боку ему будет легче, и чувствующий при каждом новом повороте, что ему все становится хуже и хуже.
Такова была до сих пор история чернорабочего люда во всех странах, в целом мире. История безнадежная, страшная, гнусная, способная привесть в отчаяние всякого ищущего в ней человеческой справедливости. И все-таки в отчаяние приходить не следует. Как она ни гадка, нельзя сказать, чтоб она прошла даром и не принесла никакой пользы. Что ж делать, если самой природой своей человек осужден путем всевозможных мерзостей и мучений доработываться из тьмы кромешной до разума, из скотства до человечества! Путем исторических заблуждений и неразлучных с ними бед образовались безграмотные толпы. Они потом и кровью, нищетой, голодом, рабской работой, мучением и смертью платили за каждое новое движение, в которое их вовлекали эксплуатировавшие их меньшинства. Вместо книг, которых они читать не умели, вся история записывалась на их шкуре. Такие уроки не забываются. Платя так дорого за каждую новую веру, надежду, ошибку, народные толпы рядом исторических глупостей доходят до разума.
Они дознали горьким опытом суетность всех религиозных верований, всех национальных и политических движений, вследствие чего в их понимании впервые поставился определенно и ясно социальный вопрос, вопрос, который один соответствует их первоначальному и многовековому инстинкту, но который в продолжение веков, от самого начала государственной истории, был заслонен от них религиозными, политическими и патриотическими туманами. Туманы рассеяны, и вся Европа охвачена ныне социальным вопросом.
Народные массы в настоящее время везде начинают понимать настоящую причину всех своих бед, начинают понимать свою солидарность и сравнивать свое число, необъятное, с ничтожным числом своих вековых грабителей… Но если они уже дошли до такого сознания, что ж мешает им освободиться теперь?
Недостаток организации, трудность сговора.
Мы видели, что во всяком исторически развитом обществе, например, хоть во всех нынешних обществах европейских, вся масса людей разделяется на три главные категории:
на огромнейшее большинство массы, совсем неорганизованной, эксплуатируемой, но не эксплуатирующей;
на довольно значительное меньшинство, обнимающее все государственные сословия; меньшинство, в разную меру эксплуатирующее и эксплуатируемое, притеснительное и притесненное вместе;
и, наконец, на самое незначительное меньшинство чистых и совершенно сознательных и сговоренных между собою эксплуататоров и притеснителей – верховно-правительственное сословие.
Мы видели, что по мере своего разрастания и дальнейшего развития большинство государственных сословий само превращается в полуинстинктивную, пожалуй, государственно-организованную, но не сговоренную, не сознательно двигающуюся и действующую массу, так что в отношении к чернорабочей массе, совсем не организованной, оно, разумеется, продолжает играть роль эксплуататорскую, продолжает эксплуатировать народ уже не по сословному преднамерению и не вследствие сговора, а на основании привычки, традиционного и юридического права, веря большею частью в законность и святость этого права; но в то же самое время в отношении к правительственному, сознательно сговоренному меньшинству оно играет в той или другой мере страдательную роль более или менее эксплуатируемой жертвы. А так как у сословного большинства, хотя и недостаточно организованного, все-таки несравненно более богатства, свободы движения и действия, образования и всех других средств, необходимых для заговора и для создания организации, чем у чернорабочего люда, то и случалось нередко, что из среды сословного большинства подымались бунты и что эти бунты одерживали победу над правительством и ставили на его место другое, свое. Таковы были доселе все внутренние политические перевороты, о которых нам повествует история.
Из таких переворотов и бунтов для народа собственно, разумеется, не могло произойти никакого добра. Бунты сословные делаются за обиды сословные, а не за народные, имеют сословные, а не народные цели. Как бы ни спорили сословия между собою и как бы они ни восставали против существующего правительства, ни одна сословная революция не имела еще и не могла иметь целью низвержение тех экономических и политических основ государства, которые делают возможным эксплуатирование чернорабочих масс, т. е. самое существование сословности и сословий. Как бы революционно ни было настроение сословий, как бы они ни ненавидели той или иной государственной формы, само государство для них свято; целость, сила, все интересы его провозглашаются ими единодушно как высшие интересы. Патриотизм, т. е. жертвование собою, своим лицом и имуществом для государственных целей, всегда признавался и до сих пор признается ими за высшую добродетель.
Поэтому ни одна революция, как бы она насильственна и дерзка ни была в своих проявлениях, не смела наложить святотатской руки на священный ковчег государства – а так как никакое государство без организации, без администрации, без войска и без довольно значительного количества людей, облеченных властью, т. е. без правительства, невозможно, то за свержением одного правительства всегда следовало постановление другого, более симпатичного или более полезного для восторжествовавших сословий.
Но, как бы оно ни было для них полезно и симпатично, новое правительство после первого медового месяца непременно начнет навлекать на себя негодование тех же самых сословий. Такова уж природа всякой власти, что она обречена делать зло. Я не говорю уже о зле народном; государство, эта крепость сословная, и правительство, как блюститель государственных интересов, для народа, в какой бы форме они ни существовали, – непременное и безусловное зло. Нет, говорю о зле, претерпеваемом самими сословиями, для исключительного блага которых существование и государства, и правительства необходимо, – говорю, что, несмотря на эту необходимость, оно всегда тяжело ложится на них и, служа их государственным интересам, не менее того их обирает и притесняет, разумеется, не в такой мере, в какой оно обирает и притесняет народ.
Правительство, не злоупотребляющее властью, не притеснительное, не лицеприятное и не ворующее, действующее только в смысле общесословных интересов и не забывающее их очень часто в заботе об исключительном удовлетворении лиц, стоящих во главе его, – такое правительство – это квадратура круга, идеал недостижимый, потому что противный человеческой природе. А природа человека, всякого человека, такая, что дайте ему власть над собою, он вас притеснит непременно, поставьте его в положение исключительное, вырвите его из равенства, он сделается негодяем. Равенство и безвластие – вот единственные условия нравственности для всякого человека. Возьмите самого яростного революционера и посадите его на всероссийский престол или дайте ему власть диктаторскую, о которой так много мечтают наши зеленые революционеры, и он через год сделается хуже самого Александра Николаевича.
Государственные сословия давно в этом убедились и создали даже пословицу, которая гласит, что «правительство есть необходимое зло», необходимое опять-таки, разумеется, только для них, отнюдь не для народа, для которого само государство, ради которого необходимо правительство, есть зло не необходимое, а гибельное. Если б сословия могли обойтись без правительства, сохраняя только одно государство, т. е. возможность и право эксплуатирования народного труда, то они, разумеется, не ставили бы одного правительства вместо другого. Но исторический опыт, например, плачевный исход шляхетской польской республики[6], доказал им невозможность существования государства без правительства. Отсутствие правительства порождает анархию, а анархия ведет к разрушению самого государства, т. е. к порабощению края чужим государством, как это было с несчастною Польшею, или к совершенному освобождению чернорабочего люда и к уничтожению сословий, как это будет, надеемся, скоро в целой Европе.