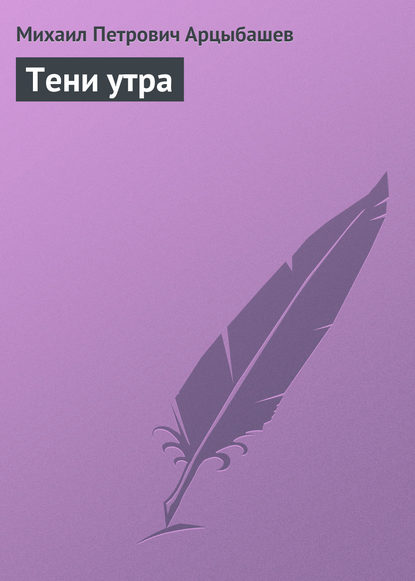По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тени утра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Почему же вы и не пошли?
– Нельзя же всем сразу… – улыбнулся Андреев. – Придет и мой черед.
– Так вы Незнамова знаете?
– Да. Я его давно знаю… Сложная, богатая натура… Коренев – это борец по природе… по темпераменту… Он потому только и взялся за дело, что в настоящее время нет выше и отчаяннее борьбы, как революционная… Только в борьбе за свободу, когда все силы человеческие напрягаются для того, чтобы или разорвать цепь, или самому погибнуть, возможно такое высокое напряжение… Коренев, в сущности, жестокий человек…
Да… А Незнамов только ожесточенный… Он ведь удивительно добрый и нежный… Все настоящие анархисты, должно быть, такие же добрые, чуткие люди: та огромная масса зла, грубости и несправедливости, которая наполняет мир и которая для нас только печальный факт, – для него настоящий ужас!..
Андреев остановился и стал задумчиво жевать кончик левого уса. Глаза у него стали мягкими и задумчивыми.
– Есть такие натуры, – опять заговорил он, – которые поднимают на себя все зло мира и переживают его в глубине своей уединенной души от начала до конца… и душа у них окровавленная… да. Им становится непереносимо и невозможно только сострадать и возмущаться, потому что общее страдание уже становится их собственным страданием. Наступает тот момент, когда у них душевная боль достигает такого невыносимого напряжения, что… надо уже или самому умереть, или вступить в активный бой. И тогда эти мягкие, нежные, музыкальные души становятся неподвижно напряженными, ожесточаются… да. А душа у Незнамова чистая, святая… Жаль, если он пропадет!..
Андреев махнул рукой и зашагал по комнате. Опять слышно стало, как скучно и монотонно тикают часы. Дора сидела, понурившись, и неясная, тайная для нее самой мысль, что у нее душа тоже какая-то особенная, – приятно и стыдливо пронеслась у нее в голове.
– Да… Так-то, Дора Моисеевна! – проговорил Андреев. – Помните же, вы будете стоять на углу так, чтобы нам было видно и с вокзала, и от переулка. Когда поезд придет и князь выйдет из вагона, акушерка выйдет на крыльцо и махнет рукой извозчику. В это время вы должны обмахнуться платком, точно вам жарко, и этот сигнал передадут до кофейни; а когда князь сядет в карету, вы повторите сигнал. По второму сигналу Незнамов и Коренев выйдут навстречу… Вот…
– Помню… Неужели вы думаете, что это можно забыть? – возразила Дора.
– Я этого не думаю… – спокойно ответил Андреев. – Но на мне лежит обязанность проверить… Вы, главное, не волнуйтесь.
Дора отрицательно покачала головой. Стало тихо, и долго было тихо, пока не прозвучал в темной передней новый звонок, точно повторяя заученный звук.
– Ну, вот и они… – сказал Андреев спокойно и пошел отворять.
Слышно было, как загремел дверной крюк и вошли люди. Дора подняла голову и заблестевшими глазами уставилась навстречу.
Коренев был так же высок, красив и размашисто подвижен, как и прежде. Незнамов был так же высок, как и он, но тоньше и изящнее его. Был он белокур, с большими глазами и мягкими волосами, и болезненно неожиданно напомнил Доре покойного Пашу Афанасьева. Оба они пожали ей руку.
– Вы бы нам чаю дали, товарищ Баршавская… – шутливо сказал Коренев, сразу наполняя всю тихую квартиру своим голосом, фигурой и силой движений. Доре показалось, что от него пахнет свежестью и воздухом, как будто он пришел с мороза.
– Хорошо… – стараясь попасть ему в тон, притворно спокойно ответила Дора и ушла в кухню, где долго ставила самовар, неумелыми руками роняя крышку и просыпая уголь.
Из столовой ей были слышны голоса и смех Коренева, беззаботно и оживленно рассказывающего, на какие уловки пришлось им пуститься, чтобы сбить с толку преследовавшего их сыщика. А когда она вернулась, Коренев говорил, сидя верхом на стуле:
– Кто мне нравится, так это наша акушерка!.. Вот особа!.. Она и во время светопреставления будет так же спокойна, как на родах!.. А знаете, я эти два дня чувствую, что живу… Жаль только, что все скоро кончится!
– Подожди еще! – угрюмо возразил Андреев.
– Нет, брат, – засмеялся Коренев, весело скаля белые зубы, – нам с ним один день, а там – фью!..
Белокурый Незнамов молча постучал тонкими, худыми пальцами о край стола, точно выстукивая ему одному слышный мотив.
От веселого голоса Коренева и его короткого, выразительного свиста смутный холод вдруг поднялся и подступил к самому затылку Доры. Ноги у нее задрожали, и, охваченная внезапной слабостью, Дора присела на край кушетки. Как сквозь туман слышала она, что говорил Коренев, и его громкий, бодрый голос странно глухо доходил до нее.
– Скверно то, что людей мало… Берутся все, а как до дела дойдет – и пиши пропало.
Дора опомнилась. Ей постоянно мучительно казалось, что высокий и красивый студент в глубине души презирает ее, и в его присутствии она всегда подтягивалась.
Она торопливо улыбнулась, бросила робкий и быстрый взгляд на Незнамова и встала.
– Чай будете пить с лимоном? – спросила она.
– Я?.. Да… – машинально ответил Незнамов.
За чаем, которого никто не пил, кроме Коренева, больше молчали, и в этом молчании как будто слышнее было, как идет время и приближается страшный роковой день.
– Ну, мы уходим… – сказал Коренев, поднимаясь. – До завтра!
Все встали.
– Вот Дора Моисеевна укажет вам, где все лежит… – серьезно и деловито сказал Андреев Незнамову.
– Хорошо. Прощайте! – ответил тот.
Одну минуту все напряженно молчали, как будто не знали, что дальше делать.
– Да, – тихо сказал Андреев, – может быть, больше и не увидимся…
Он подошел к Незнамову и обнял его нежно и искренно.
– Прощайте, голубчик!.. – ласково ответил Незнамов.
И от этого ласково-печального голоса и затуманившихся глаз Андреева Доре вдруг стало невыносимо остро жаль и себя, и их всех. Слезы выступили у нее из глаз и покатились мимо носа, на вздрагивающие губы.
Коренев крепко пожал руку Незнамову и молча улыбнулся. Незнамов ответил ему такой же тонкой, печальной улыбкой.
Потом Коренев и Андреев ушли, а Дора пошла запереть за ними дверь и долго прислушивалась к удаляющимся шагам. Хлопнула внизу дверь, и все стихло.
Когда она вернулась, Незнамов стоял у окна и, чуть-чуть отодвинув штору, смотрел на улицу. Была еще ночь, и улицы были странно пусты, но небо уже сияло прозрачным утренним светом, и последняя звезда нежно голубела высоко над землей.
– Уже светает… Короткие у вас ночи… – ласково улыбаясь, сказал Незнамов, услышав шаги Доры.
– Да… – застенчиво ответила Дора и машинально стала прибирать на столе.
У нее было странное, смешанное чувство: и впервые вошедшего ей в голову сознания бесповоротности решения, и смутной девической неловкости, и наивной, гордой радости, что она остается одна в последний вечер с человеком, имя которого завтра пронесется по всей России и заставит задрожать ужасом самые каменные сердца недоступных и властных людей.
На дворе медленно, но неуклонно разгоралась заря нового дня, и его розовые, еще бледные отблески ложились на светлые волосы и лицо Незнамова.
Он тяжело вздохнул, отошел от окна и, мягко улыбаясь, сказал Доре:
– Быть может, это последнее утро, которое я встречаю… Одного мне только и жаль!.. В сущности говоря, я большой мечтатель: люблю солнце, небо, осень, весну… люблю траву… все светлое, тихое, жизнерадостное… и мне вовсе не хочется никого убивать, не хочется умирать…
– Почему же вы идете на это? – робко спросила Дора, и в ней опять шевельнулось гордое сознание, что вопрос ее – вопрос исторический.
– Как вам сказать?.. – слабо улыбаясь, ответил Незнамов. – Вернее всего, что именно потому, что чересчур люблю жизнь и мне слишком больно смотреть, как ее уродуют!..
Он стоял перед Дорой высокий, тонкий и весь какой-то светлый и все улыбался, а горло Доры опять сжалось острой тоской и, чувствуя, что сейчас расплачется, она торопливо протянула ему руку и сказала, не глядя:
Другие электронные книги автора Михаил Петрович Арцыбашев
Бунт




 4.5
4.5
Учители жизни




 4.5
4.5