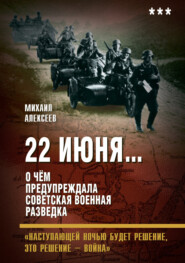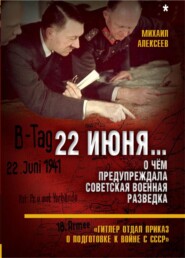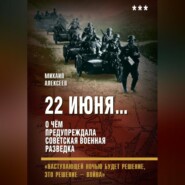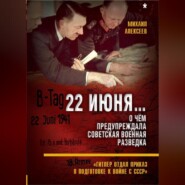По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
22 июня… О чём предупреждала советская военная разведка. «К исходу 21 июня неизбежность нападения фашистской Германии на СССР в следующие сутки не была очевидна»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Комплектование производить стрелками-бомбардирами, прослужившими в строю не менее 2-х лет, а также средними и младшими командирами всех родов войск, имеющими среднее и высшее образование.
Установить налет на каждого курсанта 150 часов.
Срок обучения для первого набора установить один год с налетом 75 часов и исключением для первого набора задачи обучения самолетовождению в сложных метеорологических условиях»[31 - Приказы народного комиссара обороны СССР, 1937-21 июня 1941 г. // Русский архив. Великая Отечественная. Т. 13(2–1). – М., 1994. – С. 243–246.].
Задача дешифрирования и владение техникой фотолабораторной обработки не должна была являться компетенцией штурмана, а возлагаться на наземный технический персонал.
Под название «Военно-авиационное училище для подготовки штурманов ближнебомбардировочной авиации» подпадало только создаваемое «Краснодарское объединенное военное авиационное училище для подготовки командиров-летчиков бомбардировочной авиации и командиров-штурманов ближнебомбардировочной авиации», выпуск из которого должен был состоятся только через год.
Подготовка же штурманов, на которых возлагалась в т. ч. задача ведения воздушной разведки, включая и аэрофотографирование была прекращена в связи с перепрофилированием пяти военно-авиационных училищ летнабов и штурманов – Харьковского, Челябинского, Мелитопольского, 2-го Чкаловского и Краснодарского – на военные авиационные школы стрелков-бомбардиров.
1.2 «Нужно сказать, что у нас разведывательных самолетов и разведывательных экипажей в авиации нет»
(Из выступления командующего 9-й армией комкора Чуйкова на совещании в ЦК ВКП(б) 15 апреля 1940 г.)
Об аэрофоторазведке вспомнили лишь в ходе войны с Финляндией, когда попытка прорыва долговременной полевой обороны (линии Маннергейма) после артподготовки, проводившейся путем стрельбы по площадям, оказалась безуспешной, а наши войска понесли тяжелые потери.
С учетом значительного количественного и качественного превосходства советской стороны быстрая победа над Финляндией не вызывала сомнения[32 - «Вообще же в войсках царили “польские”, как тогда называли “шапкозакидательские” настроения, подогреваемые политической пропагандой (здесь и далее выделено мной. – М.А.). У бойцов пытались создать впечатление, что финские рабочие и крестьяне только и ждут дня и часа, чтобы, воспользовавшись вступлением Красной Армии, начать восстание против их капиталистов. На самом же деле на защиту своей страны от агрессин поднялись даже бывшие бойцы финской Красной Гвардии, сражавшиеся с войсками фон дер Гольца в 1918-м. …Боевой состав ВВС не был однороден: с одной стороны, многие полки относились к ядру ВВС Красной Армии, были давно сформированы, укомплектованы и сколочены. Например, полки 16-и и 55-й скоростных бомбардировочных бригад, а также часть полков из состава 59- й истребительной бригады имели ограниченный опыт «польского» похода.При этом многие летчики воевали на Халхин-Голе, получили закалку в Испании и Китае. В то же время имелись полки, сформированные или получившие новую технику лишь в самое последнее время. Нельзя забывать, что 1939 – 1941 гг. был периодом многократного увеличения Красной Армии. Так, если на 1 января 1939 г. ВВС имели в своем составе 115 авиаполков (причем, переход на полковую систему начался только в начале 1938 г.), то к 1 октября их количество составляло 136, а к 1 марта 1940 г. увеличилось до 147! Неудивительно, что уровень боевой подготовки летчиков и слётанность подразделений новых частей оставлял желать много лучшего. Такой важный показатель, как аварийность, в 1938 г. подскочил по сравнению с предыдущими годами более чем в два раза. Так, если в 1936 г. в ВВС произошло 43 катастрофы и 237 аварий с гибелью 94 человек, то в 1937 г. уже 62 катастрофы, 336 аварий с гибелью 110 человек.В 1938 г. эти показатели составили уже 148, 423 и 273 соответственно!Налет в часах на одно происшествие упал с 1590 в 1936 г. до 933 в 1938 г. В 1939-м эти тенденции проявились ещё резче. В частности, в этом году в воздушных происшествиях погибли даже четыре Героя Советского Союза: командующий АОН-1 B.С.Хользунов, комбриг А.К.Серов, кавалер двух Золотых Звёзд C.И.Грицевец и легендарная лётчица Полина Осипенко Ещё более напряженная обстановка сложилась с руководящими кадрами. В принципе она мало отличалась от той, которая имела место накануне Великой Отечественной войны. В настоящее время подсчитано, что тогда 43 % авиационных командиров всех степеней находились на своих должностях менее полугода, а еще 22 % – от 6 до 12 месяцев. Картина с командирами соединений была ещё более разительной. Там стаж руководства не более полугода имел 91 % комсостава. Достаточно сказать, что пробывший на должности начальника ВВС Красной Армии около двух лет А.Д.Локтионов 19 ноября, накануне начала войны с Финляндией, был назначен командующим войсками ПрибВО, а его место ненадолго занял Я.В.Смушкевич.Уже после окончания войны на совещании командования ВВС Ленинградского военного округа, состоявшегося в апреле 1940 г. и посвящённом анализу действий авиации в войне с Финляндией отмечалось, что из всего числа руководящего состава авиачастей привлечённых к боевым действиям, лишь на 37 % должностей находились кадровые военные! В подавляющем большинстве должности заместителей командиров авиаполков, комиссаров полков и эскадрилий, инженеров всех рангов и уровней занимали призванные из резерва партийные и советские работники, заводские инженеры, школьные учителя и даже… колхозные счетоводы!!..Однако подобное положение только на первый взгляд кажется невероятным, поскольку по среднему уровню грамотности населения страны, СССР в указанное время находился на одном из последних мест в Европе. Это было в общем и не удивительно, так как обязательный «Всеобуч», а проще говоря обязательное начальное школьное образование было введено лишь в 1930 г. Стоит ли после этого удивляться результатам Крымской, Русско-Японской и Первой Мировой войнам! Ведь в той же Германии обязательное (и бесплатное!) школьное образование было введено ещё в XVIII веке, и как сказал канцлер Бисмарк, «победу во франко-прусской войне обеспечил германский школьный учитель». При этом, если у нас обязательными в начале 30-х годов были семь классов, то в той же Германии – десять! В результате по состоянию на середину лета 1933 г. уровень образования у курсантов школ ВВС РККА всех типов был следующим:курсанты, окончившие 9 – 10 классов, составляли всего 12,4 %;– окончившие 7 классов – 26,1 %;– начальное образование 3 – 4 класса имели 58,1%– вообще не учились в школе 3,4 %.Только в 1935 г. было принято решение принимать в военные школы (а с 1937 г. и в училища) лиц с общим образованием не менее чем в 7 классов, а в 1937 г. этот уровень подняли до 8 классов. Но сказываться эти нововведения начали только уже после окончания Второй Мировой воины, а к концу 30-х годов в РККА было ещё немало командиров с начальным общим образованием 3 – 4 класса или вообще без оного. Но даже наличие образования в 7 – 8 классов ещё ни о чём не говорило. Как с горечью отмечал в 1933 г. начальник Главного управления военно-учебных заведений РККА Б.М.Фельдман, «даже лица, формально имеющие 7-летку, фактически имеют очень низкие знания…». В свете этого высказывания уже совершенно неудивительной выглядит реплика Наркома обороны маршала К.Е.Ворошилова, сообщившего на заседании Военного Совета РККА, что «наши слушатели всех академий воют, что им такими темпами преподают, что они не успевают воспринимать…» А ведь всего через несколько лет выпускникам военных школ, училищ и академии предстояло вести людей в бой!Именно уровень общей и профессиональной образованности командного и лётного состава стал вторым по важности фактором, определившим результаты боевой работы ВВС РККА в ходе финской кампании. Особенно это сказалось опять же на начальном её этапе, когда ощущалась известная нехватка сил и средств.Определённые дивиденды командование РККА извлекло из участия наших вооружённых сил в так называемых «малых войнах». В результате к концу 1939 г. заметную часть среди людей, командовавших ВВС общевойсковых армий в «финскую войну», составляли вчерашние лейтенанты и капитаны, выдвинувшиеся на высокие посты и получившие звания Героев Советского Союза за личную храбрость и мастерство, проявленные в небе Испании и Дальнего Востока. Такими были Ф.П. Полынин (1906 г.р.), И.И. Копец (1908 г.р.), С.П. Денисов (1909 г.р.), Т.Т. Хрюкин (1910 г.р.), П.В. Рычагов (1911 г.р.), Г.П. Кравченко (1912 г.р.) и ряд других, сделавших во второй половине 30-х годов стремительную карьеру.Однако наряду с рядом положительных моментов, среди которых определяющую роль играл фактор наличия у абсолютной массы таких выдвиженцев довольно значительного боевого опыта, отсутствие необходимого уровня общей культуры, причиной чего была всё та же нехватка образования, неоднократно вызывало у героев, отмеченных высокими наградами, откровенное пренебрежение служебными обязанностями…Рыба, как известно, согласно народной пословице, тухнет с головы. Наблюдая подобное откровенно наплевательское отношение к службе со стороны высшего руководства, аналогично относились к своим обязанностям многие средние и младшие командиры. В ряде авиачастей органами НКВД отмечалось повальное пьянство среди летно-технического состава. О таких же вещах как небрежное ведение всех видов документации, безответственность при организации полётов, слабое знание матчасти, её порча, разбазаривание казенного имущества (особенно ГСМ и обмундирования) и говорить не стоит. Любопытно, что в течение 1939 г.Нарком внутренних дел Л.П. Берия свыше десяти раз собирал высшее руководство Главного Штаба ВВС РККА на совещания по вопросу обсуждения абсолютно нетерпимого состояния дисциплины в среде «Сталинских соколов». Однако результаты были почти нулевые: большинство расследований происшествий, повлёкших даже гибель людей(!!), командованием спускалось “на тормозах”.Таким образом, третьим фактором, определившим результаты войны в воздухе зимой 1939 – 1940 гг. был уровень дисциплины в ВВС РККА, оставлявший желать много лучшего даже в авиачастях, входивших в состав Действующей армии.Неудивительно, что, наблюдая сложившееся положение, новый глава НКВД вновь задействовал испытанное средство, опять раскрутив маховик репрессий, хотя и далеко не до уровня “ежовских оборотов”. Впрочем, в вынужденном “омолаживании” кадров репрессии не сыграли той роли, которую им обычно приписывают. Всего за период 1937 – 1941 гг. поставили “к стенке” и отправили “на лесоповал” лишь около 5 тыс. авиаторов, в первую очередь из числа высших и старших офицеров. Однако в несколько раз больше “сталинских соколов” отправились на нары по уголовным делам. Другую, куда более заметную часть (существенно превосходящую число репрессированных), составляли уволенные по состоянию здоровья. Даже число погибших в ходе боевых действий и авиакатастрофах за указанный период значительно превосходит количество так называемых “без вины виноватых”.С учётом быстрого наращивания числа частей и авиасоединений, необходимо признать, что ВВС РККА испытывали к концу 30-х годов настоящий кадровый голод, а уровень боевой подготовки всех категорий личного состава к началу советско-финляндской войны оставлял желать много лучшего и по некоторым оценкам в среднем был даже ниже чем в первой половине 30-х годов. Именно этот фактор необходимо вынести на четвёртое место при анализе действий нашей авиации зимой 1939 – 1940 гг. Канд. ист. наук полковник Мирослав Морозов, при участии Александра Кириндаса, канд. тех. наук Владимира Котельникова и Александра Булаха. История Авиации. ВВС Красной Армии в Зимней войне 1939–1940». Спецвыпуск № 2. С.22 – 30.].
Финляндия же была отнюдь не готовой к закланию жертвой. Ещё в ходе переговоров, когда о боевых действиях даже речи не было и шло лишь обсуждение различных предлагаемых советским правительством вариантов размена территорий, Генштаб Финляндии приступил к проведению мобилизации, а финская разведывательная авиация начала осуществлять вылеты на фотографирование объектов на сопредельной территории. Судя по всему, ни один из этих полётов экипажа Бленхейма Мк.1 (борт. BL-1I0) капитана А.Эсколы, выполнявшего свои разведывательные рейды над советской территорией на высотах около 8000 м, из-за чрезвычайно низкой боеготовности советских средств ПВО не был замечен[33 - Там же.].
В конце 20-х – начале 30-х годов развитию бомбардировочной авиации придавалось исключительное значение, и не случайно удельное количество бомбардировщиков в составе наших ВВС изменилось с 10,1 % в 1929 г до 50.6 %. к концу 1937 г. Игравшая важную роль в теории «глубокой» наступательной операции бомбардировочная авиация должна была сокрушать артиллерийские позиции и вторые эшелоны вражеских войск, вести борьбу с резервами и осуществлять разрушение транспортной системы, изолируя тем самым районы активных боевых действий. Кроме того, перед авиаторами ставились стратегические задачи по уничтожению военного производства, а также парализации жизни экономических и политических центров вражеских государств.
Естественно, что при этом вероятным противником в будущей войне рисовалось одно или несколько ведущих капиталистических держав Запада, обладавших современными и хорошо вооруженными армиями. То, что нам может встретиться армия, почти не имеющая тяжелой техники и ведущая боевые действия полупартизанскими методами, никто не ожидал.
«Основным методом выполнения задачи являлось бомбометание с горизонтального полета с высот от 1800 до 3000 м. Некоторые коррективы эта теория претерпела в связи с первым опытом современной войны, накопленным в небе Испании и Дальнего Востока, а также утратой части (вследствие репрессий) кадров авиационных теоретиков. Как реакция на возросшую роль истребителей в борьбе за господство в воздухе началось развертывание дополнительных истребительных авиачастей. В результате их удельный вес возрос с 30.3 % в 1937 г. до 53,4 % к лету 1941 г. (включая истребители штурмовых авиаполков), за счет некоторого снижения темпов роста числа бомбардировщиков.
Не последнюю роль в этом играло два чрезвычайно важных обстоятельства, вытекавшие одно из другого. Дело в том, что в рассматриваемое время авиапромышленность Советского Союза, несмотря на колоссальный рывок первых пятилеток, испытывала острую нехватку легких сплавов. В среднем в год выплавлялось около 60 тыс. тонн алюминия, в то время как в Германии, строившей меньше самолетов, этот показатель составлял почти 200 тыс. тонн! Дефицитный металл закупался за рубежом где только можно, но и этого было мало. В этих условиях пришедшее на ответственные посты в ВВС РККА … молодое “истребительное лобби” вполне здраво рассудило, что если современные бомбардировщики можно строить только из металла, то истребители еще могут производиться «из недефицитных материалов», вырабатываемых отечественной промышленностью.
В то же время штурмовая и особенно разведывательная авиация находились в плачевном состоянии (здесь и далее выделено мной. – М.А.). Удельный вес разведчиков снизился с 69,2 % в 1929 г. до 19,1 % к 1937 г., достигнув рекордно малой отметки в 41-м – всего 3,2 %. При этом в ВВС Красной Армии наметилась практика списания в разведчики пилотов и штурманов из числа экипажей истребительной и бомбардировочной авиации которые по каким-либо причинам не удалось “вписаться” в уровень подразделения или части. В аттестациях многих пилотов разведчиков можно было прочесть “из-за плохой техники пилотирования и слабой общеобразовательной подготовки использовать в бомбардировочной или истребительной авиации не представляется возможным. Подлежит переводу в разведывательную авиацию”. Нетрудно догадаться о том, что уровень боеготовности этого рода авиации был весьма невысоким, если не самым низким по ВВС. Недостаточная подготовка лётного состава усугублялась чрезвычайно устарелой матчастью, представленной в основном бипланами Р-5. … Все это объяснялось недооценкой важности создания специализированных самолетов данных типов»[34 - Там же.].
Перспективы у разведывательной авиации ВВС РККА именно в тот момент оказались самыми незавидными. Мало сказать, что в конце 30-х ей не придавали особого значения. С ней фактически расправлялись, как с «классовым врагом»[35 - 1939–1945.net – Авиация. http://www.airwar.ru/enc/bww2/yak2.html]. В речи наркома обороны К.Е. Ворошилова на XVIII съезде ВКП(б) 13 марта 1939 г. как о большом достижении говорилось, что за последние пять лет соотношение легко-бомбардировочная, штурмовая и разведывательная авиации по сравнению с другими видами авиации уменьшилось в два раза:
«Военно-воздушные силы по сравнению с 1934 годом выросли в своем личном составе на 138 %, т. е. стали больше почти в два с половиной раза. (Аплодисменты.)
Самолетный парк в целом вырос на 130 %, т. е. увеличился значительно больше, чем в два раза.
Если же выразить возросшую мощь воздушного флота в лошадиных силах авиамоторов по сравнению с 1934 г., то мы получим увеличение на 7.900.000 лошадиных сил или прирост на 213 % по сравнению с тем, что было 5 лет тому назад. (Аплодисменты.)
Наряду с количественным ростом воздушного флота изменилось и его качественное существо. Вот краткие данные, свидетельствующие о сказанном:
Изменилось за это время, что очень важно, и соотношение между различными видами авиации внутри военно-воздушного флота.
Тяжело-бомбардировочная авиация с 10,6 % выросла до 20,6 % – рост в два раза.
Легко-бомбардировочная, штурмовая и разведывательная авиация – с 50,2 % уменьшилась до 26 % – уменьшение в два раза (выделено мной. – М.А.)
Истребительная авиация – с 12,3 % увеличилась до 30 % – рост в 2? раза.
Таким образом, изменилось соотношение видов авиации в пользу бомбардировщиков и истребителей больше, чем в два раза.
…
Товарищи! Наша армия несокрушима! Она является детищем нашей партии, она ее прекрасное творение, она всегда готова, по указанию партии, нашего Правительства и вождя народов великого Сталина биться за свою социалистическую Родину и претворить в живое дело священные слова военной присяги:
“Я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами”.
Да здравствует наша великая Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков!
Да здравствует XVIII-й съезд нашей партии!
Да здравствует наш великий Сталин!
(Все встают. Бурная, долго несмолкающая овация: “Да здравствует товарищ Сталин!”, “Да здравствует товарищ Ворошилов!”, громкое, долго несмолкающее “ура”)»[36 - XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б) 10–21 марта 1939 г. Стенографический отчет. М., 1939. С. 187–204.].
Особенно потрясает «возросшая мощь воздушного флота в лошадиных силах авиамоторов по сравнению с 1934 г.» на 7.900.000 лошадиных сил или прирост на 213 % по сравнению с тем, что было 5 лет тому назад.
Система оборонительных сооружений Финляндии, известная как «линия Маннергейма», создавалась не вдруг и отнюдь не за год – два до начала войны с Советским Союзом, а с конца 20-х годов, так что времени на сбор развединформации о ней теоретически имелось в достатке.
Перед системой бетонных ДОТов оборудовались многочисленные линии эскарпов, надолбов, минных молей, ряды колючей проволоки. Каждый метр фронта перед главной полосой был пристрелян. Глубина её на наиболее важных направлениях достигала восьми километров. ДОТы практически не имели «мертвых зон» – каждый из них прикрывал своих соседей справа и слева. При этом огневые точки располагались в шахматном порядке, как правило – на возвышенностях, крутых берегах озер и рек, и были связаны друг с другом системой бетонированных ходов и окопов, так что внезапный захват позиций не представлялся возможным. Бетонные стены ДОТов достигали полутораметровой толщины, входы закрывались дверьми из броневой стали толщиной не менее 15 мм. Сверху сооружения прикрывались слоем земли до двух метров толщиной. Часто на земляном покрытии ДОТов высаживались деревья, которые к началу Зимней войны достигли 10 – 12-летнего возраста и служили превосходной маскировкой. Немудрено, что многочисленные атаки нашей пехоты быстро захлёбывались под мощным огнем. Подавить его сходу оказалось невозможно, так как разведданные о начертании главной полосы предстояло ещё только собрать[37 - История Авиации. Спецвыпуск № 2. – Указ. соч. – С. 53.].
17 декабря начался первый штурм финских позиции на главном направлении, проходившем вдоль железнодорожной ветки Ленинград – Выборг, в районе станций Сумма и Ляхде. Везде ситуация повторялась с трагическим однообразием: части многократно атаковали противника без необходимой разведки; пехота останавливалась у надолбов, где отсекалась от танков пулеметным и миномётным огнем, несла потери и отходила в наспех отрытые окопы. Танки же, преодолев линию ДОТов, также не могли решить задачу. Выйдя в назначенный район они блокировались финнами, которые, подтянув противотанковые пушки, расстреливали наши машины как в тире.
«Авиация подключилась к поддержке наступления с 18–19 декабря. Однако лишь небольшое количество истребителей, легких бомбардировщиков и штурмовиков действовало в интересах непосредственной поддержки наступления. Этому препятствовало как отсутствие взаимодействия с сухопутными частями, так и отсутствие разведанных целей. Матчасть войсковых разведэскадрилий ЛВО… состояла исключительно из самолетов Р-5, ССС (Р-5 ССС [ «скоростной, скороподъемный, скорострельный»] – М.А.) и Р- Z. Эти тихоходные бипланы не рисковали выпускать за линию фронта без истребительного сопровождения, а летчикам-истребителям такие задания были в тягость – скорости их самолётов и упомянутых аэропланов были явно несопоставимы.
Но беды разведки не ограничивались только этим. Крайне мало оказалось экипажей, способных вести эффективную воздушную разведку чисто визуально. На “безориентирной” местности, с множеством схожих по очертаниям озер, заваленных снегом и потому неотличимых от лесных полян, при отсутствии ясно читаемых границ лесных массивов, авиаразведчик скорее сам мог заблудиться, чем обнаружить даже крупные части противника (выделено мной. – М.А.), не говоря уже об отдельных группах лыжников и замаскированных ледовых аэродромах и пр.»[38 - Там же. – С. 56.].
Другой причиной ограничения деятельности авиации против вражеского переднего края стало… противодействие собственных частей! Количество случаев обстрела своих самолётов наземными войсками не поддается учету. В первые недели войны они носили повальный характер. Стреляли по всему летящему. Данное положение практически не менялось до середины февраля 1940 г. Подобные факты имели место из-за того, что многие красноармейцы не обладали навыками распознавания летящих машин, поскольку, по-видимому, до войны аэропланов вообще не видели. На счастье (если можно так сказать), точность стрельбы пехотинцев по воздушным целям оказалась крайне невелика – за все время войны ими был сбит достоверно только истребитель И-153 из состава 68-го ИАП. Летчик Тимофеев погиб[39 - Там же. – С. 57.].
Самыми древними, из принявших участие в Зимней войне советских самолётов были разведчики Р-6 (АНТ-7, главный конструктор А.Н. Туполев), которые в это время ещё оставались на вооружении ВВС Краснознамённого Балтийского флота. По своему прямому назначению эти машины использовать уже не имело смысла, несмотря на довольно мощное оборонительное вооружение, а потому они выполняли небоевые задачи[40 - Там же. – С. 206.].
«Поскольку визуальная разведка оказывалась бессильной уточнить места расположения долговременных огневых точек финнов, то без фотографирования “линии Маннергейма” обойтись было невозможно. Состояние аэрофоторазведки оказалось настолько запущенным, что, когда решили прибегнуть к ее помощи, поначалу пришлось помогать ей самой. В авиачастях нередко отсутствовали аэрофотоаппараты, а там, где они имелись, в огромном дефиците были фотопленка, химикаты, а также люди, разбиравшиеся в фотоделе. Бывало, в разведчасти присылали пленку с истекшим сроком хранения, непригодную к использованию (здесь и далее выделено мной. – М.А.). Болезненно сказывалось на оперативности подготовки схем укреплений отсутствие помещений, где можно было бы обработать фотоматериалы. Впоследствии в отчете ВВС Северо-Западного фронта признавалось, что отсутствие элементарных разведданных “привело к тому, что артиллерия и авиация, не видя целей и не зная точного их расположения, действовали в течение месяца почти вслепую”. После провала первых попыток прорыва линии Маннергейма была проделана огромная работа по её фотографированию. Так, одна только 1-я ДРАЭ ВВС 7-й армии за январь 1940 г. сфотографировала 8,1 тыс. км, отпечатала 127 тыс. фотоснимков, которые впоследствии были объединены в схемы и переданы в штабы стрелковых корпусов, готовившихся к прорыву вражеских укреплений. Старания летчиков эскадрильи были оценены награждением подразделения орденом Боевого Красного Знамени»[41 - Там же. – С. 57.].
Отдельным направлением действий Краснознаменного Балтийского флота в декабре – начале января стала огневая поддержка наступавших вдоль побережья Финского залива наступающих частей Красной Армии. В первые дни она осуществлялась беспрепятственно, но с выходом к главной полосе линии Маннергейма выяснилось, что с моря вражеские укрепления прикрыты системой хорошо замаскированных береговых батарей. Трижды (10, 18–19 декабря и 1 января) предпринимались попытки уничтожить их путем комбинированных ударов линейных кораблей КБФ и авиации, однако успех так и не был достигнут.
«Поначалу дело затруднялось скудостью развединформации (здесь и далее выделено мной. – М.А.) Например, дано задание: “Разрушить береговую батарею острова Биоркэ (современное название Коивисто – Прим. Авт.)”, а изучить эту батарею не по чему. Отсутствовали даже точные координаты объекта, который фактически представлял собой набор точечных целей. Приходилось собирать сведения о противнике самостоятельно. В этом деле визуальная разведка совершенно не помогала: летчики даже с малой высоты полета не в силах были “вычислить” места расположения береговых военных объектов, поскольку те хорошо маскировались. Выполнять задания мешали зенитные точки, интенсивно обстреливавшие разведывательные самолеты. Располагавшиеся либо на близлежащих островах, либо в шхерах (в зависимости от района, где велась разведка), позиции зенитной артиллерии представляли серьезную угрозу для атакующей стороны. Таким образом, задачи разведки внезапно расширились: требовалось определять не только координаты батареи, но и зениток, защищавших острова от воздушных налетов. Без подавления зениток невозможно было не только уничтожить батареи, но даже провести их фотографирование. В результате экипажи-разведчики могли указать только направление, с которого их самолеты обстреливались, и не более того. Требовалось провести широкомасштабную аэрофоторазведку, но выполнение ее затянулось – по тем же причинам, что и в ВВС Северо-Западного фронта. Эго не могло не сказываться на эффективности бомбометаний. Даже применение сверхмощных (по тому времени) ФАБ-1000 не давало нужных результатов. Общие же усилия, направленные на уничтожение береговых батарей, выглядели довольно впечатляюще: совершено 1180 боевых вылетов, сброшено 6180 авиабомб (в т. ч. 136 ФАБ-1000 и 20 БРАБ-1000) суммарным весом 954 т (37 % веса бомб, сброшенного авиацией КБФ за время войны). Вот только результат оказался близким к нулевому»[42 - Там же. – С.87.].
27 мая 1940 г. был подведен опыт боевых действий ВВС Краснознаменного Балтийского флота (в подготовке документа привлекался начальник 2 отдела штаба авиации ВМФ капитан 2 ранга Ежов).
«Опыт боевых действий авиации КБФ – отмечалось в документе, – вскрыл ряд крупнейших недочетов, являющихся следствием недостаточной выучки и боевой подготовки в мирное время. Важнейшими недочетами являются:
…
4. Низкое качество аэронавигационной подготовки, слабое знание летным составом театра боевых действий, что в условиях низкой облачности и полетов на малых высотах привело к массовым потерям экипажами ориентировки и блуждания, вплоть до бомбардировки своего побережья.
5. Плохая работа разведки в мирное время поставила ВВС КБФ в тяжелое положение в начальный период боевых действий. Необходимые данные о целях на театре отсутствовали, а имеемые были неверны. В результате первые боевые удары авиации производились <вслепую>, безрасчетно и неэффективно.
6. Аэрофоторазведывательная служба оказалась на низком уровне: скоростные самолеты (СБ, ДБ-3, И-15) фотоустановками не оборудованы, летный состав бомбардировочных частей разведке и фотосъемке не обучен, фотолаборатории оборудованы примитивно, кадры фотоспециалистов не натренированы к быстрой обработке материалов и дешифровке снимков.