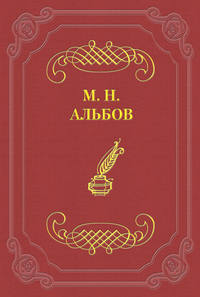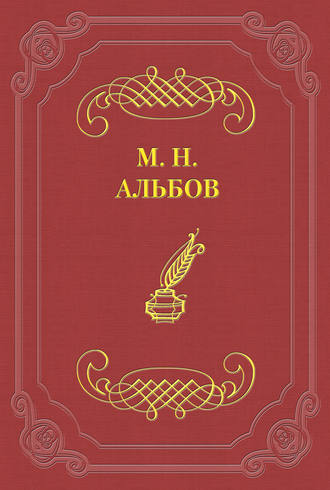
На точке
И благодаря этому волшебнику месяцу дикий, безмолвный сад, со своими разбитыми статуями и засоренным фонтаном, печальный, заброшенный, каким он всегда представлялся из-за решетки взорам прохожих при дневном освещении, теперь дышал томительной негой… В этих прохладных аллеях мерещились любовные пары и слышались звуки лобзаний и шепот страстных речей… Он как бы весь трепетал и звучал мощною песнью любви, что гремела, лилась, замирала и снова подымалась, лилась, рассыпаясь серебристою трелью в потоках лунного света, гулким эхом рокоча в сумраке лиственных ниш, – и пела ее, эту песню, схоронившись где-то в невидимой чаще, влюбленная пташка…
Соловей сделал руладу и смолк…
Филипп Филиппыч пребывал недвижим, с головой, прислоненной к решетке… Он ждал…
Но сад был безмолвен.
Он медленно отклонился и, опершись на палку, встал на ноги.
Затем он осмотрелся по сторонам. Вокруг по-прежнему было безлюдно и тихо… В нескольких шагах, на земле, лежал, растянувшись и спрятав голову в лапы, Фальстаф.
Уловив намерение своего хозяина тронуться дальше, он тоже поднялся, но остался на прежнем почтительном расстоянии, не изменяя своего выражения оскорбленного достоинства.
– Фальстаф, иси! Ну, ну, дурак… Чего ты, дурак? – обратился к нему Филипп Филиппыч, потрепал по спине и погладил.
«То-то, давно бы так», – подумал удовлетворенный Фальстаф, трогаясь вслед за хозяином.
Филипп Филиппыч шел прежним медленным, развалистым шагом, только теперь голова его была низко понурена и на лице залегло какое-то особенное, совсем еще не бывалое сегодня на нем выражение… Углы губ его были скорбно опущены книзу, а раскрытые широко глаза застыли в созерцании чего-то, видимого им только одним и не существующего во всем окружающем.
Он перешел несколько перекрестков и улиц, машинально обходя незасохшие лужи, ни разу не подняв понуренной своей головы, вырезываясь в своей белой паре и соломенной шляпе на темном фоне заборов, бросая черную тень на залитые луною стены мазанок, и очутился наконец пред знакомой калиткой.
Тут он будто проснулся, дернул ручку звонка, проведенного через двор в сени квартиры, и снова понурился.
Спустя несколько минут терпеливого ожидания калитка была отворена сонной Параской, которая, будучи в довольно соблазнительном неглиже, тотчас же отпрянула в тень от забора. Он перешагнул через порог, прошел медленно двор и медленно поднялся по ступенькам крыльца, все не поднимая понуренной своей головы и с раскрытыми широко глазами, созерцавшими что-то, видимое им только одним и не существующее во всем окружающем…
IV. О том, про что знали его грудь да подоплека
Филипп Филиппыч вошел к себе.
Столб лунного света широкой полосой перерезывал комнату, выходя из дверей его спальни.
Он бросил шляпу, как всегда это делал, на письменный стол, палку поставил в угол и машинально прошелся по комнате несколько раз взад и вперед…
Спать ему совсем не хотелось, да и ложиться он привык всегда лишь под утро. Вдобавок он чувствовал теперь в себе что-то странное, какое-то особенное, непривычное чувство, которого он уже давно не испытывал…
Яркий, полный месяц, крикливо вырезываясь на безоблачном небе, глядел прямо в окно спальни, где штора не была спущена, и вся окрестность виднелась, утопая в бледном сиянии.
Он тихо прошел, в полосе лунного света, весь им облитый, в своей белой паре, как привидение, сел у окна и распахнул его настежь.
Речка Смородка, словно стальная, сияла ровным, нетрепетным блеском. За нею черной каймою тянулась левада. Далее – сосны стояли недвижно, как тени… А на лоне этого сонного царства гремел, перекатываясь, походя то на стон, то на хохот, невидимый хор голосов, исходивший от неисчислимого множества лягушечьих глоток…
Филипп Филиппыч облокотился руками на подоконник и, приникнув к нему головою, застыл в тихой думе.
В его памяти возникла утренняя сцена с птенцом и встал, как живой, сам птенец, в своем новом мундирчике, с волнением повествующий о неудачном экзамене…
И в душе Филиппа Филиппыча сказался такой монолог:
«Пришел ведь… пришел не домой… ко мне первому… Да!.. И как бы это могло случиться иначе?.. И допустить разве можно, чтобы это могло случиться иначе?.. Но почему это так?.. Что я для него, да и вообще для всей этой семьи, и что они для меня?.. А между тем вот люблю же я их, а его даже так, как если бы он был мой собственный сын!..»
Филипп Филиппыч все сидел, приникнув головою к рукам, и глаза на его неподвижном лице были устремлены прямо в диск месяца, к которому теперь подкрадывалось маленькое прозрачное облачко… А то давешнее, странное чувство, которое вползло в его душу и разрасталось все пуще, пока он шел по тихим, пустынным улицам заснувшего города, до тех пор, как вступил в эти безмолвные стены своей холостой, одинокой квартиры, теперь держало его всего, целиком, в своей власти…
Впрочем, нет: это было не странное, даже не новое, а хорошо знакомое чувство. Оно и прежде не раз поднималось вдруг из самых глубоких тайников его существа, но он всегда гнал его прочь, не дозволяя себе поддаваться ему, и только раз, всего один раз, в прошлой жизни Филиппа Филиппыча оно дало ему испытать такую же мучительно-острую боль…
Но это было давно, очень давно!
Он был тогда еще совсем молодым человеком. И вот и тогда, как теперь, он сидел, облокотившись на подоконник открытого настежь окна, и тупо-пристальным взором смотрел перед собою в пространство…
А что тогда было похожего на это, теперешнее?.. Ровно как есть ничего! Он смотрел с высоты огромного дома, над которым висело мрачное, беззвездное небо, – даже луны тогда не было, – а внизу, под ним, словно в некой бездонной и огромной яме, с мерцающими сквозь мутную мглу, как светляки, фонарями, рокотал и роился чуждый, невиданный город.
То был Петербург, а комната, в которой сидел он, – номер Знаменской гостиницы, маленький, скверненький, с претензией казаться изящным, куда привез его с вокзала извозчик, содрав за это целый полтинник, хотя и езды-то всего было одна только площадь, лихо зато подкатив к широким подъездным дверям со швейцаром, а тут тотчас же осадил путешественника какой-то необыкновенно услужливый и юркий субъект, который подхватил его чемодан, а его самого повлек по широкой каменной лестнице, влек все выше и выше – пока он, измученный, оглушенный, растерянный, не очутился в стенах этой комнаты…
О чем он думал тогда, робкий, неуклюжий провинциал, покинувший родные поля глухого уезда Тамбовской губернии, оставшись один-одинехонек у растворенного настежь окошка?.. Всю дорогу, сперва трясясь на перекладных, а потом сидя в вагоне тогда еще новой Николаевской железной дороги, он мечтал о венце своего путешествия, об этой царице полуночных стран, как о чем-то неведомо-чудном, что должно преисполнить душу его неизреченным восторгом и обратить всю дальнейшую жизнь в один вечно ликующий праздник… И вот наконец путешествие кончено… О, он помнит отлично свои тогдашние мысли, которые неожиданно посетили вдруг его голову, когда глаза созерцали вечернее петербургское небо, как созерцают теперь они, спустя много лет, лунный ландшафт этой южной благоухающей ночи…
Он думал о сцене, которая произошла у него с отцом, за несколько дней перед отъездом, и перед глазами его стоял, как живой, сам отец, в тех чертах, в каких тогда ему помнился, и в них же, в этих чертах, врезался в памяти навсегда, на всю жизнь… Он – вдовец, отставной кавалерист Караваев из мелкопоместных, но отличный хозяин, чтимый в целой округе как хлебосол, любит и псовую охоту, и от картишек и от прочего другого не прочь… Вот он, со своим характерным, николаевского типа, с оплывшими чертами, лицом и седыми усами, прокопченными Жуковым[16], стоит среди комнаты и, размахивая чубуком с погасшею трубкой, держит речь. Тут же и брат, фамильными чертами – в отца, сидит в уголку и слушает молча… От старика немного отдает винным букетом… В комнате горит сальная свечка…
– Эй, Филька, выкинь из головы эту дурь!.. Какого тебе дьявола делать в Питере?.. Университет… На кой тебе черт?.. Ученый! Ха!.. Ну, марай здесь бумагу, коли тебе уж такая охота, – я разве мешаю?.. Умнее отца хочешь быть?.. Не-ет, брат, яйца курицу не учат, уж это поверь… да… шалишь! Ты посмотри на себя… Горько мне, отец ведь тебе, не чужой, но ты меня сам вынуждаешь! Ну, слушай… Ты кто? Фалалей, тюфяк, баба! Тебя теленок забодает! Ведь ты пр-ропад-дешь!! Ты думаешь, зачем это я все говорю? Ты думаешь, мне очень приятно?.. Ведь я люблю тебя, дубина ты этакая! Ведь я от сердца тебе говорю!.. Ну что ж, остаешься иль нет? Говори!
– Нет, – с усилием произносит молодой человек.
– Так едешь?
– Еду, папаша…
– Тьфу! Черт с тобой, коли так! – восклицает с гневом старик и уходит, хлопая дверью.
Брат поднимается из своего уголка и намеревается тоже уйти…
– Павел! Послушай! Скажи ты хоть слово…
– Что я скажу?.. Ты ведь не маленький… Тебе вот отцовские слова нипочем… А по-моему – он прав, извини!
– Так и по-твоему меня теленок забодает?
– Забодает, еще бы!
– И действительно я фалалей, тюфяк, баба?
– Конечно!
И с этим Павел уходит.
Мучительно, от слова до слова, припоминается ему весь разговор… О, неужели они оба правы?.. Неужели и то, что повлекло его из захолустья, была действительно одна только дурь, а он – жалкий, ничтожный мальчишка, растерявшийся на первых шагах в этом страшном, неведомом городе, потому что он действительно страшен ему, этот город, где все – и вот этот извозчик, который содрал с него так безбожно, и этот лакей, распорядившийся с ним словно с вещью, – все они увидали, что он за птица, так как он и в самом деле тюфяк, фалалей и каждый теленок его забодает… А там, впереди – еще целый ряд столкновений с разными лицами, из которых никому нет до него ни малейшего дела!..
Он зарыдал на всю комнату, стеная и всхлипывая уже впрямь как ребенок…
И если б тогда, в ту минуту, чья-нибудь рука любовно легла ему на плечо – только, не больше, – он бросился бы на грудь тому человеку и отдал бы ему всего себя, безвозвратно, и так бы излил свое сердце:
«Нет, нет, это не малодушие! Вздор! Я на себя клевещу! Я верю в себя, верю в силы, которые бьются во мне, потому что я их чувствую, да! Я верю во что-то, что выше и лучше всего, что я видел между людьми, чья целая жизнь – еда и покой… Только я ласки хочу, самой простой, маленькой ласки, которой я не знал никогда!..»
Но в комнате не было никого, кроме него, и он одиноко плакал на своем подоконнике, давая полную волю слезам, которыми выливалась вся мука его молодого несогретого сердца…
Он встал с сухими глазами. Стены номера, казалось ему, смотрели с насмешкой. Пара свечей на столе сонно подмигивали… Он взял ту и другую, подошел к длинному зеркалу, которое виднелось в простенке, и, встав против него, осветил себя с обеих сторон…
На него взглянула из рамы фигура здорового румяного малого, с распухшим носом и скривившимися в жалкую гримасу губами…
«Баба!» – прошептал он презрительно и показал язык своему отражению.
Затем он поставил свечи на прежнее место, запер окно, разделся, лег – и почти тотчас заснул, без грез и видений, крепким, здоровым сном утомленного путника.
Так ознаменовался его приезд в Петербург.
И вот университет… Все ужасы, которые рисовал молодой человек в своем представлении о чуждых и безучастно к нему относящихся лицах, разлетелись как дым с первых шагов его вступления в студенчество… Нашлись и земляки, объявились милые, душевные люди, лихие товарищи, от одного соприкосновения с которыми тотчас же исчезли его дикость и недоверчивость… С самозабвеньем и пылом молодых нерастраченных сил ринулся он с головою в новую бесшабашную жизнь… Слишком уж много было прельщений для его свежей, первобытной натуры, вскормленной в сонном приволье тамбовских степей, далеких от чар цивилизованной жизни.
Весь семестр промелькнул как один смутный сон, составленный из эпизодов беспорядочного, труда и хмельного угара, вперемежку с отрывками разных сцен и событий: «Gaudeamus igitur, juvenes dumsumus…»[17], беснованье целою партией в театральном райке в честь любимой артистки, разбитые стекла в трактире, ночное шатанье толпою, при этом чьи-то окровавленные морды – и экзамен, после тяжелого ночного похмелья… Как бы то ни было, первый курс пройден… Весна… И опять громыханье вагона по рельсам, бегущие мимо полосатые верстовые столбы, беззаботная трель жаворонка, реющего чуть видною точкой в небесной лазури, и родные поля!
И вот он опять на своем пепелище… И отец и брат – оба такие же, не изменились нисколько с тех пор, как он с ними расстался, точно это случилось только вчера… Оба, кажется, рады ему, на глазах старика даже слезы… Но почему же сам-то он, про себя, чувствует какой-то разлад, который возник между ним и всем окружающим? Нет, он не вырос нисколько в глазах этих людей, и они смотрят на него с любопытствующим снисхождением, а самые стены, кажется, шепчут ему: «Ты не наш!»
А все-таки он, как ни на есть – интересный приезжий, видавший многие виды, и от него ждут рассказов… И он рассказывает – о Казанском соборе, Неве, Эрмитаже, театрах… Все это он видел своими глазами!.. А дальше-то что – самое главное, что вынес он из своих исканий света и знания?.. Возникают в памяти, как отрывки кошмара, стычка с полицией по поводу одного скандала, чьи-то разбитые скулы, батарея бутылок, сидящие без сюртуков фигуры товарищей… И жгучая краска залила его щеки, на душе стало вдруг мрачно и скверно, и губы лепечут опять о Неве и Казанском соборе…
– Н-да, любопытно! – произносит не то насмешливо, не то равнодушно брат Павел, весь запыленный и мокрый от поту, вернувшийся с поля, и суетливо нахлобучивает на себя свой грязный картуз, чтобы опять ехать на мельницу…
А отец – тот не произносит даже и этого, а только молча отвертывается, чтобы выколотить свою погасшую трубку, но и спина его и затылок, кажется, говорят молодому человеку с сарказмом: «Э-э-эх!.. Фалалей, брат, ты, как и был, фалалеем ты и остался!»
Томительно-медленно для него тянется время вакаций… Но вот, слава богу, и август!.. Опять сборы, затем расставанье – как и тогда, год назад… Надолго ли? До весны? Он не знает… Он бросает прощальный взгляд на родные стены, в которых протекли его детство и юность, а те опять ему шепчут: «Нет, ты не наш!»
Совсем с другими мыслями и чувствами приехал он теперь в Петербург. В течение всей длинной дороги в нем зародился и вырос новый внутренний человек, с которым (да, это так, решено!) он вступит теперь на жизненный путь!..
– А, Караваев!.. Вот он, Караваев!.. Душка! Голубчик! Ну что? Ну как?.. А наших, брат, опять та же компания!.. Да обнимайся же, черт!!
Он жмет руки, переходит из объятий в объятия, среди шумных и радостных восклицаний своих покинутых на лето добрых товарищей, и он всем им рад, и они все ему рады – а внутренний его человек в это время шепчет ему: «Помни смотри и будь тверд!»
«Да уж это конечно, авось хватит характера!» – отвечает он ему про себя и, для начала, отказывается наотрез идти вместе с компанией отпраздновать свидание выпивкой.
Все за минуту веселые лица вокруг него становятся вмиг укоризненными и огорченными.
– Да ты это что же?.. С ума сошел? Вот те фунт! Это уж свинство! Товарищ!.. Не ожидали, брат, этого! – сыплются на него восклицания, а он молчит и внутренне страдает, но непреклонен в решении и в конце концов остается один…
Да, он хочет и будет, он уже бесповоротно решил, что будет один!
И вот он один в своей комнате. Ломберный стол, который имеет назначение письменного, завален записками лекций и книгами разных форматов – все лексиконы да творения латинских и греческих классиков. Время у него распределено в строгом порядке. До обеда – на лекциях, а вечер – здесь, за этим столом… Он весь ушел в работу и за этой работой был счастлив… Все свои развлечения он ограничил театром, а с прежними товарищами совсем разорвал. Те сперва приставали, потом, при встречах, стали посматривать с тем пытливо-подозрительным выражением, какое бывает при виде человека, у которого, как говорится, на чердаке не все ладно, и наконец оставили его совершенно в покое. Ему только это и требовалось.
Как бы то ни было, у него все-таки оставались еще кое-какие знакомства (в Петербурге их нельзя избежать) – и он сперва появлялся в двух-трех семейных домах, по случаю тех или других фамильных торжеств. Там он страдал несказанно. Он был так застенчив, неловок, даже нелеп. Скольких усилий стоило ему хоть на время забыть, что у него существуют руки и ноги, с которыми он в этих случаях не знал, что ему делать, как это удается другим, чувствующим себя повсюду легко и свободно, а главное – он совсем, совсем не умел говорить! Во время общей беседы, когда все болтали, что вздумается, другие даже просто-напросто глупости, он пребывал безмолвен, как рыба, а когда, вооружившись вдруг храбростью, открывал было рот – в ту же минуту он с ужасом делал открытие, что мысли его, те самые мысли, которые он только сейчас имел в голове – вдруг исчезли куда-то, совсем, безвозвратно – и опять он смыкал уста свои печатью молчания… С барышнями, особливо хорошенькими, он чувствовал себя вполне уже несчастным… А эти проклятые фанты! О, вот где было истинное наказание божеское!! Участвуя в них, он становился совсем идиотом, – а между тем, как назло, волей судьбы ему выпадало играть в них самые дурацкие роли, как, например, «стоять в виде статуи», «быть зеркалом» и т. п., и он, глубоко страдающий, хотя и с насильственно-напряженной улыбкой, весь красный, в испарине, не находил в себе сил возмутиться…
«фу-у!.. Черт бы побрал их!» – восклицал он, измученный, вернувшись домой, в свою одинокую комнату…
А здесь ждал его письменный стол, на нем же тетради и книги.
И тогда мало-помалу светлый покой нисходил в его смятенную будничной пошлостью душу, и все впечатления от этих пустых, банальных речей, глупых фантов и нелепого смеха, доставивших ему столько страдания, исчезали бесследно в лучах красоты, что лились с этих старых пожелтевших страниц, будя те тонкие незримые струны, которые жили в нем, молчаливом, смешном фалалее, сказавшись впервые в душе его еще там, далеко, среди степей провинциального его захолустья, в трелях поднебесного жаворонка и колыханье былинок – и звучат вот теперь постоянно во всем, что его окружает: и в красках петербургского неба, и в мелодии музыкальной пьесы, и в рифмованной строчке читаемой книги…
На лето он домой не поехал… Вместо того он нанял избу в одной из деревень, под Петербургом, и провел все вакации в одиноких прогулках по лесам и лугам, с палкой в руке и какою-нибудь книгой в кармане. Случалось, лежа под деревом, вынет он из-за пазухи записную тетрадь, карандаш и примется торопливою рукою нанизывать на чистых страницах короткие строчки… О существовании этой тетради не знала ни одна душа во вселенной. Она заключала в себе его первый авторский опыт, созревавший на летнем досуге, – большую поэму, в героическом духе, под заглавием «Кейстут»…[18]
К концу вакаций поэма поспела. Возвратившись в столицу, он переписал ее набело и, замирая, отнес в одну из редакций.
Спустя положенный для прочтения срок ему ее возвратили… Он стоически перенес неудачу и, не делая больше попыток пристроить свой труд, спрятал под спуд его, к прочим бумагам. «Терпение!» – решил он про себя и отдался усердному посещению лекций. А тем временем, между делом, наполнялась себе втихомолку другая тетрадь, посвященная стихам в антологическом роде…
Он работал усердно по-прежнему и по-прежнему много читал, замкнувшись в себе еще больше. Знакомства он прекратил и остался верным одному только театру.
Тетрадь стихотворений испытала участь «Кейстута». Отнесенная в редакцию, она возвращена была автору. Он присоединил ее, как и прежнюю рукопись, к прочим бумагам и принялся за повесть из современного быта, которую назвал «Недолгое счастье».
Он совсем отделил себя от всего, что существует вовне, словно вся эта видимая жизнь человечества, которое что-то делает, куда-то стремится и о чем-то хлопочет, было нечто совсем постороннее, случайное и преходящее, область каких-то фантомов, истинный же центр всей вселенной – тот мир стройных поэтических образов, которые всегда останутся вечными в созданиях великих художников.
А между тем временами чувство чего-то особенного, неудовлетворенного и не могущего быть замененным изучением созданий искусства, поднималось вдруг из недр его существа, заставляя его в эти минуты испытывать состояние глубокой и безысходной тоски… Образ женщины возникал перед ним в те минуты… Неуловимы и смутны были ее очертания, и ни одно из когда-либо виденных им женских лиц не походило на этот, живший в душе его образ, беспрестанно менявший свое выражение: то стыдливый и твердый в исполнении долга, как Татьяна из «Онегина», то нежный и самоотверженно любящий или гордый и негнущийся в бедствии, как диккенсовские Агнеса Викфильд из «Копперфильда» и Эсфирь из «Холодного дома»…[19] Неужели они – лишь создания фантазии? Нет, невозможно!.. Они жили и теперь существуют, только он-то ни разу их не встречал и никогда, во всю жизнь, их не встретит, неуклюжий и смешной фалалей!..
А тем временем там, в действительной жизни, происходили события, занимавшие собою Европу. Настала эпоха крымской кампании…[20] Он все-таки не настолько себя обособил, чтобы не знать о войне: о ней говорили вокруг, он и сам читал об этом в газетах… Только и это, как и прочее все, шло мимо него, и он совсем мог бы остаться чуждым этим событиям, если бы не один неожиданный случай, который, будучи связанным с ними, врезался навсегда в его памяти.
Однажды утром он, к великому своему изумлению, вдруг увидел перед собою отца!.. Старый кавалерист точно с неба свалился. Сын протер глаза свои, в первую минуту подумав, не грезит ли он. Но нет, старик был тут, живой, воочию! Он тискал молодого человека в объятиях, обдавая его памятным запахом Жукова, которым, как и всегда, были прокопчены его седые усы, смоченные теперь слезами свидания… А тем временем извозчик вносил и расстанавливай в комнате чемодан и прочие вещи приезжего…
– Папаша! Да вы ли это? Какими судьбами? – вымолвил наконец насилу пришедший в себя от изумления сын.
– Я! Сам! Проездом! Проститься!.. Еду, брат!
– Как? Куда едете?
– Под Севастополь… В ополчении я!
– Вы?.. В ополчении?..
– Чего уставился?.. Ну да! Я!.. В ополчении! Что ж тебе удивительно?
– Господи боже мой! – нашелся только воскликнуть молодой человек.
А путешественник между тем возился со своими вещами и его тормошил, произнося скороговоркой:
– Вот что, брат, как бы насчет самоварчика?.. Да послать бы чего-нибудь закусить… Деньги-то есть ли? А не то вот, возьми… Да водицы бы мне… Рожу умою, а потом сейчас же и марш! Съездить надо в несколько мест… Теперь-то мне растабарывать некогда, а вот ужо, только управлюсь, поболтаем как следует.
Молодой человек чувствовал себя точно во сне, и отец, которого раньше он не мог себе представить иначе, как облеченным в халат и лениво слоняющимся с трубкою в руках, из угла в угол их деревенского дома, являлся теперь перед ним каким-то особенным, совершенно иным, незнаемым им до этой поры человеком. Это состояние не покидало его во все продолжение времени, которое тот провел в Петербурге, постоянно возбужденный, как в лихорадке, проникнутый одною идеей о Севастополе, и когда, наконец, на платформе вокзала старик в последний раз обнял его и вошел в двери вагона, а поезд свистнул, охнул и, тронувшись, мало-помалу скрылся из глаз, – он вернулся к себе под впечатлением какого-то смутного и беспокойного чувства, которое звучало резкою нотой в стройной гармонии привычных его ощущений, чуждых всегда тревожных волнений по поводу чего бы то ни было, что не касалось сферы его дорогого искусства…
Впрочем, впечатление это вскоре изгладилось под влиянием одного случившегося после того обстоятельства. А именно – повесть «Недолгое счастье», подобно всем предыдущим продуктам его литературного творчества, потерпела фиаско в редакции… Тогда, в первый раз, он предался раздумью по поводу своей авторской деятельности… В результате получилось решение – не складывать рук, а потому он и начал тотчас же новый рассказ, с менее сложным, однако, сюжетом…
А время все шло своим чередом, и в мире действительной жизни события тоже шли своим чередом… Крымская кампания кончилась, и ему еще раз пришлось испытать отражение этой эпохи в обстоятельствах своей личной жизни.
На его имя пришло письмо с черной печатью, в котором брат Павел извещал о смерти отца… Старик был убит в деле 4 августа, на Черной реке…[21] Филипп Караваев приглашался домой, для участия в разделе наследства.
Два года он уже не был на родине. Короткое свидание с отцом в Петербурге, а затем это письмо, с вестью о нем, писанное знакомым почерком брата, явились отзвуком чего-то далекого, нравственные связи с которым навсегда уже порваны… Что было ему делать в деревне?.. Он ответил, с приложением формальной на имя брага доверенности, что вполне полагается на его добросовестность и считает поэтому свое личное присутствие во время раздела излишним.