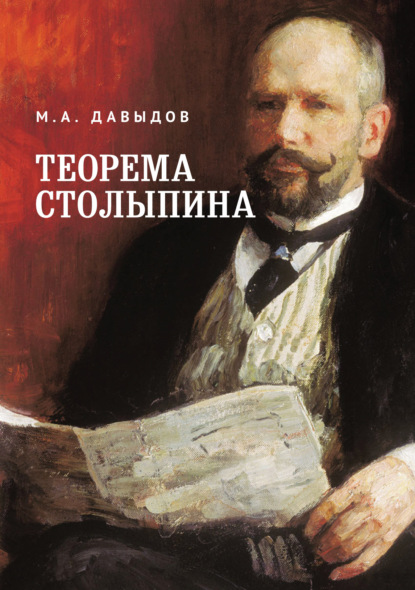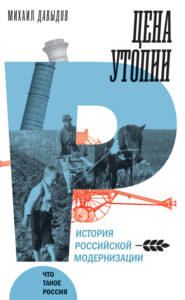По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Теорема Столыпина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По-своему забавный эпизод, всего-то светский ресторанный разговор не только дал 24-летнему Кофоду огромную пищу для ума, но и во многом предопределил сценарий его жизни.
После этого памятного вечера он ясно понял, что консолидация крестьянских полосок в компактный участок невозможна, пока в русском обществе господствует атмосфера восприятия уравнительно-передельной общины как национальной святыни.
Ему стало понятно, что никакие прагматичные доводы об интенсификации не подействуют на общественное мнение, пока он не сможет найти жизнеспособные примеры удачно проведенного разверстания – «конкретные видимые доказательства».
Много лет спустя он так описывает свои тогдашние, по его же определению, «фантазии»: «У меня не было никаких шансов, что мне удастся найти что-нибудь подобное. Но так уж я устроен, что мне бывает очень трудно отказаться от осуществления чего-то, что, по моему убеждению, должно быть осуществлено, – сколько бы времени ни прошло, прежде чем я смогу приступить к этому. Ведь недаром же я ютландец![7 - Надо думать, что в Дании это понятие столь же комплиментарно как наше «сибиряк».] Кроме того, я был, к счастью, оптимист – каковым, впрочем, и остался – и не питал никаких сомнений в том, что рано или поздно мне удастся найти такие разверстания, в которых я нуждался».
Он исходил из того, что было бы очень странно, если бы в такой гигантской стране, как Россия, среди сотен тысяч деревень не нашлись бы крестьяне, которым надоело, что их земли разбросаны клочками и кусками по всем полям. А если такие деревни существуют, то он сумеет их обнаружить.
Так и случилось, но только через 21 год.
Конечно, скептик всегда может сказать, что мемуарист, зная развязку, постфактум приписал себе чувства, которых на деле не было.
Проверить это не удастся.
Но в данном случае я – не скептик.
На долгие годы Кофоду была суждена роль вольтеровского Простодушного, который видел то, чего не замечало – по привычке и по «замыленности» взгляда – большинство окружающих.
Через некоторое время он был намного лучше осведомлен о том, что такое «мир».
Он уже знал, что в нынешнем виде передельная община возникла как результат податной реформы Петра I. Каждая ревизская душа должна была иметь равные с другими возможности уплатить подушную подать.
При освобождении крестьян в 1861 г. юридическим собственником выкупаемой земли после перехода на выкуп стала община (общество, «мир»), а каждый отдельный крестьянин имел право пользоваться определенной ее частью.
Это право было постоянным или временным в зависимости от того, было ли в данном обществе подворное или общинное землевладение.
Первое было распространено в западных губерниях, когда-то входивших в состав Речи Посполитой. Здесь у крестьян было наследственное право пользования теми участками пашни и лугов, на которых они фактически трудились, а также право на долю в так называемых площадях общего пользования. Община была владельцем земли лишь формально.
А в великорусских общинных деревнях «мир» периодически переделял землю между крестьянами по своему усмотрению в соответствии с принятой в нем системой разверстки (по ревизским душам, по работникам и др.)
Чересполосица была в обоих вариантах, однако стабильность пользования землей при подворном владении позволяла крестьянам улучшать землю, не опасаясь потери вложенного труда при очередном переделе.
Прояснился для Кофода и вопрос о «священном характере» общины: «Есть веские основания предполагать, что если бы русская община не стала приблизительно в середине прошлого столетия, предметом особого внимания как со стороны правительства, так и со стороны общества, то она умерла бы кроткой и спокойной смертью, так же незаметно, как и жила. Но этого не произошло.
Как часто случалось до и после этого в русской истории, «немец» разрушил идиллию и обратил внимание всей страны на проблему.
Судьбе именно было угодно, чтобы один ученый немец, барон фон Гакстхаузен получил разрешение, под надлежащим контролем, ездить по России и собирать сведения об ее экономическом и социальном положении (в 1843 г. -М. Д.)
Он обнаружил общину, которую описал как феномен, происходящий из русского народного характера, заслуживающий того, чтобы его заботливо сохраняли, так как он, этот феномен, защищает сельское население от пролетаризации.
Не так уж много страниц было об этом в отличном трехтомном труде Гакстхаузена, но то, что он написал об этом, стало водой на мельницу сильной в то время панславистской партии (т. е. славянофилов – М. Д.). Гакстхаузеновские путевые очерки стали одной из тех книг, которые никто не читает, но о которых все говорят.
Говорили, конечно же, только о тех нескольких страницах, на которых рассказывалось о «мирском» правопорядке, но представлялось это так, как будто во всем труде речь шла только об этом. Если этот ученый-иностранец, говорилось, считает, что правопорядок «мира» является достойным восхищения чисто русским явлением, которое может помешать пролетаризации сельского населения, значит, это так и есть, и мы должны защищать этот правопорядок всеми способами.
Совсем уж неадекватными стали настроения после того, как один из наиболее известных дипломатов того времени, граф Кавур, который слышал кое-что о книге Гакстхаузена, обращаясь к известному русскому революционеру Бакунину,[8 - Не путает ли Кофод Бакунина со славянофилом Кошелевым, описавшим беседу с Кавуром об общине в своих «Воспоминаниях»?] человеку с очень богатой фантазией, высказался примерно так: «Вам, русским, повезло, вы же в вашем мирском самоуправлении имеете палладиум против пролетаризации сельского населения!
Теперь уже все порядочные люди в России, независимо от того, были славянофилами или нет, считали, что община – это табу. Горе тому, кто поднимет на нее руку!
Так что ничего удивительного, что наше с профессором Сегельке мнение о необходимости расселения русских деревень было отклонено»
.
То, что пишет Кофод, – правда, но это не вся правда.
Его воспоминания, изданные в 1945 г. в Копенгагене, вряд ли были рассчитаны на публикацию в СССР, и это должно было отразиться на манере и степени подробности изложения.
Для целей Кофода-мемуариста информации, которую он сообщает датскому читателю в этом описании, было достаточно.
Для нас же сегодня – определенно нет, поскольку за рамками остается важнейший пласт идей, доживший до XXI в. нашего времени и продолжающий влиять на нашу сегодняшнюю жизнь.
Кофод, безусловно, знал все перипетии развития общинной парадигмы, прямо воздействовавшие на судьбы русской деревни, а в конечном счете – и России в целом, но, полагаю, считал излишним погружать в эти подробности своих европейских читателей. Так, он ни слова не говорит о надеждах на общину социалистов.
Поэтому мы должны расширить рамки слишком дипломатичного изложения проблемы автором, чтобы лучше понимать, каким образом «скромная» «незаметная» община стала, во-первых, мифом национального самосознания (и для многих продолжает оставаться таковым даже в эпоху межпланетных перелетов), а во-вторых, – центром не только всего строя крестьянской жизни, но и залогом политического и экономического будущего Российской империи.
Кофод с мягкой иронией говорит об общинных симпатиях русского общества как о простительной слабости уважаемого человека.
Но мы-то сегодня знаем, что слабость эта оказалась совсем непростительной – умиление общиной и вознесение ее на пьедестал национального самосознания, ее искусственная поддержка правительством после 1861 г. обернулись разнузданной и кровавой вакханалией черного передела 1917–1918 гг., получившей в историографии название «общинной революции», с убийствами помещиков и членов их семей, изнасилованиями барынь и барышень, поджогами и выдиранием штопором глаз у лошадей.
И поэтому приведенный разговор имеет для нас самый непосредственный интерес и невыдуманную актуальность.
Попытаемся разобраться.
Что такое агротехнологическая революция?
Все собеседники согласны, что русские крестьяне живут бедно, – иначе, зачем обсуждать вопрос о подъеме производительности их «примитивного хозяйства»?
Датчане утверждают, что коренная причина этого – чересполосица.
Понятно, что раздробленность наделов на десятки частей-полос резко повышает непроизводительные затраты времени и труда на переезды. Достаточно прикинуть, сколько времени уходит на то, чтобы перейти от одной полосы к другой, от девятой к десятой, от 19-й к 20-й и т. д. (а их бывало до ста и более). Да и Россия не Дания – даже при среднем расстоянии полос от жилья в 1,5 версты, что бывало и в небольших деревнях, хозяин надела в 10 дес. ежегодно проезжал 2–3 тыс. верст!
При этом чересполосица лишь часть куда более масштабной проблемы – проблемы радикальной перестройки экстенсивного крестьянского хозяйства, которую историки – по аналогии с промышленной – называют аграрной революцией
, а мы в этой книге – во избежание аналогий с российским «черным переделом» 1917–1922 гг. – агротехнологической революцией. Вне изменения отношений собственности ликвидировать чересполосность очень сложно.
И здесь нам придется сделать пространное отступление.
Деревенское расселение всегда и везде связано с чересполосицей, принудительным севооборотом и большими массивами земель общего пользования (луга, покосы, пастбища, лес).
Чересполосица полевых угодий вытекала из стремления крестьян к абсолютной справедливости при разделе земель. Каждый хозяин вне зависимости от площади его надела должен был вести хозяйство на одинаковых с другими условиях. То есть, немного упрощая, каждый должен был иметь свою долю в земле ближней и дальней, в хорошей по качеству, в средней, плохой и т. д. В итоге крестьянский надел состоял из отдельных частей-полосок, число которых зависело от места и времени.
При этом на пашне, когда она не засеяна, всегда пасется деревенское стадо, поэтому отдельный крестьянин не может вести хозяйство так, как ему хочется, по личному плану. Севооборот в этих условиях можно устанавливать только сообща, и он является принудительным – все крестьяне должны одновременно обрабатывать поля, сеять одну и ту же культуру и убирать урожай и т. д. Иначе скот потопчет или потравит посевы.
Индивидуально крестьянин пользовался только усадебными и пахотными землями, а леса, сенокосы, пастбища и земли, считавшиеся неудобными, были в общем пользовании.
До начала Нового времени в таких условиях жила вся западноевропейская деревня (кроме местностей, где люди селились хуторами), причем в общей чересполосице наряду с крестьянами часто участвовали и помещики.
Очевидно, что эта система не позволяет вести самостоятельное хозяйство и препятствует проявлению личной инициативы отдельных хозяев, их желанию найти более выгодные варианты приложения своего труда (например, выращивать другие растения), а, значит, тормозит повышение уровня агрикультуры. К тому же с ростом населения эти явления усугубляются мелкополосицей и дальноземельем.