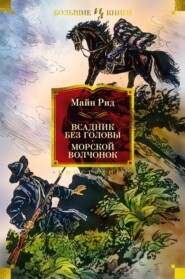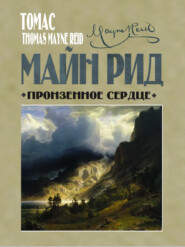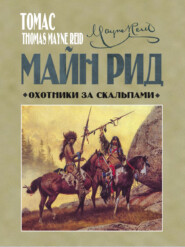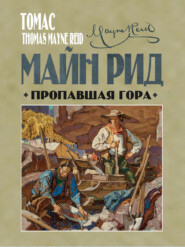По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Квартеронка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не могу сказать, мадемуазель.
– Ты уже была здесь раньше?
– Нет, только сейчас…
– Очень странно! – сказала Эжени, поворачиваясь и вопросительно глядя на меня.
Теперь я совсем проснулся и понял, что невольно говорил вслух. Мне надо было объяснить, как я узнал имя квартеронки, но при всем желании я не знал, что сказать. Признаться, о чем я думал, когда эта фраза сорвалась с моих губ, – значило поставить себя в очень глупое положение; ничего не говорить – значило позволить мадемуазель Безансон строить всевозможные догадки. Надо было что-то выдумать, без маленькой хитрости никак не обойтись.
Надеясь, что мадемуазель Безансон заговорит первая и подскажет мне какой-нибудь ответ, я пролежал несколько минут, не разжимая рта. Я сделал вид, что рука беспокоит меня, и повернулся на постели. Но она как будто не заметила моего движения и, все так же удивленно глядя на меня, повторила:
– Как странно, что он знает твое имя!
Мои неосторожные слова произвели на нее сильное впечатление. Я не мог дольше молчать и, снова повернувшись к ней, сделал вид, что только теперь заметил ее. Я выразил радость, что ее вижу, и поблагодарил за гостеприимство.
Расспросив меня о моем здоровье, она сказала:
– Но откуда вы знаете имя Авроры?
– Авроры? – ответил я. – Вам кажется странным, что я знаю ее имя? Сципион так мастерски нарисовал мне ее портрет, что я узнал ее с первого взгляда. Вот она!
И я указал на квартеронку, которая немножко отступила назад и стояла молча, с удивлением глядя на меня.
– Вот как! Сципион говорил вам о ней?
– Да, сударыня. У нас с ним был сегодня очень длинный разговор. Он много рассказывал мне о жизни на плантации. Я уже познакомился и со старой Хлоей, и с малюткой Хло, и со многими вашими людьми. Ведь я новичок в Луизиане, и все это меня живо интересует. – Я рада, что вы так хорошо себя чувствуете, мсье, – ответила Эжени, как будто удовлетворенная моим объяснением. – Доктор уверяет, что вы скоро совсем поправитесь. Благородный чужестранец! Я слышала, где вы получили вашу рану. Это из-за меня! Вы меня защищали! Ах, как мне отблагодарить вас? Чем отплатить за спасение моей жизни?
– Вам не за что благодарить меня, сударыня. Я только выполнил свой долг. Спасая вас, я не подвергался большой опасности.
– Не подвергались опасности, сударь? Вы дважды рисковали жизнью! Вам угрожал нож убийцы и смерть на дне реки. Но уверяю вас, моя благодарность не уступит вашему великодушию. Так велит мне сердце! Увы, мое бедное сердце полно благодарности и печали.
– Да, сударыня, я понимаю, – вы горюете о потере верного слуги.
– Нет, сударь, не слуги, а друга. Скажите лучше – верного друга! После смерти отца он стал мне вторым отцом. Все мои заботы были его заботами, все мои дела находились в его руках. Я не знала никаких тревог. А теперь – увы! – я не ведаю, что меня ждет. Но тут голос ее изменился, и она взволнованно спросила:
– Вы говорили, что в последнюю минуту видели, как он боролся с ранившим вас негодяем?
– Да, и больше я не видел ни того, ни другого.
– Значит, нет никакой надежды! Через несколько минут пароход затонул. Ах! Бедный Антуан! Бедный Антуан!
Она горько заплакала; я и раньше заметил на лице ее следы слез. Я ничем не мог утешить ее. Да я и не пытался. Ей было лучше выплакаться. Только слезы могли принести ей облегчение.
– И кучер Пьер, один из моих самых преданных слуг, тоже погиб. Я очень жалею и его. Но Антуан был другом моего отца и моим другом. Ах, какое горе, какое горе! Одна, без друзей. А мне скоро будут так нужны друзья! Бедный Антуан!
Она плакала, говоря это. Аврора была тоже вся в слезах. И я, глядя на них, не мог удержаться, и, как бывало в детские годы, слезы закапали у меня из глаз.
Наконец Эжени прервала эту грустную сцену. Справившись со своим горем, она подошла ко мне и сказала:
– Мсье, боюсь, что теперь я буду очень невеселой хозяйкой. Мне нелегко забыть моего друга, но я уверена, что вы мне простите, если я иногда поддамся своей печали. А пока до свидания. Я скоро опять навещу вас и послежу, чтобы за вами был хороший уход. В этом домике вы будете вдали от шума, и ничто вас не потревожит. Конечно, это нехорошо, что я сегодня ворвалась к вам. Доктор не велел вас беспокоить, но я… я не могла больше ждать… Я должна была увидеть моего спасителя и высказать ему свою благодарность. Прощайте, прощайте!.. Идем, Аврора!
* * *
Я остался один и задумался об этом посещении. Я чувствовал искреннюю дружбу к Эжени Безансон, даже больше, чем дружбу, – горячую симпатию, и я не мог отделаться от ощущения, что ей грозит какая-то беда и что над этой юной головкой, вчера еще такой беззаботной и веселой, сегодня собирается грозная туча.
Да, я чувствовал к ней расположение, дружбу, симпатию, но больше ничего. Почему я не полюбил ее, такую молодую, красивую, богатую? Почему?
Потому что я полюбил другую. Я полюбил Аврору!
Глава XIX
Луизианский пейзаж
Кому могут быть интересны подробности жизни больного, прикованного к своей постели? Никому, разве что самому больному. Моя жизнь была очень однообразна и наполнена всякими мелочами, ее скучное течение оживляло лишь появление любимой девушки. В эти минуты мое уныние сразу проходило, а постылая комната казалась мне раем.
Увы! Эти посещения длились всего несколько минут, а промежутки между ними тянулись часами. Эти долгие часы казались мне сутками… Дважды в день навещала меня моя прелестная хозяйка со своей служанкой. Но ни та, ни другая никогда не приходила одна.
Это очень стесняло меня, а порой приводило в отчаяние. Я разговаривал с креолкой, тогда как все мысли мои были заняты квартеронкой, с которой я мог лишь обмениваться взглядами. По здешним обычаям, мне не полагалось разговаривать с невольницей, однако все условности мира не могли помешать мне вести с ней безмолвный, но выразительный разговор.
Но и тут мне приходилось все время сдерживать себя. Я мог лишь украдкой бросать на нее восхищенные взгляды, так как боялся себя выдать. Во-первых, я опасался, что квартеронка неправильно истолкует их и не ответит на мою любовь. Во-вторых, что креолка слишком хорошо поймет меня и это вызовет ее гнев и возмущение. Я совершенно не думал, что могу возбудить ее ревность, это мне и в голову не приходило. Эжени была серьезна, приветлива и дружелюбна со мной, но в ее спокойном поведении и сдержанном голосе не было никаких признаков любви. Трагическое происшествие и тяжелая утрата, по-видимому, резко изменили ее характер. Она как будто совсем потеряла свою беззаботность и жизнерадостность. Из веселой девушки она сразу превратилась в серьезную женщину. Она была все так же красива, но я смотрел на нее, как на прекрасную статую. Ее красота ничего не говорила моему сердцу, занятому более редкой и своеобразной красотой. Креолка не любила меня, и, как ни странно, эта мысль не задевала моего самолюбия, а, наоборот, радовала меня.
Совсем другое дело, когда я думал о квартеронке! Любит ли она меня? Вот вопрос, на который я мучительно жаждал ответа. Она всегда сопровождала свою хозяйку, когда та навещала меня, но я не обменялся с ней ни единым словом, хотя сердце мое стремилось поведать ей свою тайну. Я даже боялся, что мои страстные взгляды выдадут меня. Если б мадемуазель Эжени узнала о моей любви, она была бы возмущена. Как! Влюбиться в невольницу! В ее невольницу!
Я понимал ее чувства – ведь она жила в стране, где черная кожа делала человека отверженным. Но что мне до этого? Что мне за дело до обычаев и предрассудков, которые я всегда презирал в душе? Тем более теперь. Ведь любовь всех равняет! Перед лицом Любви знатность теряет свое пустое обаяние, а громкие титулы становятся лишь пошлыми кличками. Одна только Красота достойна поклонения.
Что до меня, то я не побоялся бы сказать о своей любви всему свету; его презрение ничуть не трогало меня. Меня останавливало другое: учтивость, которой я должен был отплатить за гостеприимство и дружбу, и менее благородное, но очень разумное желание соблюдать осторожность. Я оказался в чрезвычайно сложном положении и прекрасно это понимал. Я знал, что, даже если квартеронка разделяет мое чувство, его нужно хранить в глубокой тайне. Если бы мне предстояло ухаживать за знатной молодой девушкой, наследницей громадного состояния, которая находится под неусыпным надзором строгой наставницы или целой армии сторожей, для меня было бы детской игрой справиться с окружающими ее препятствиями. Писать сонеты и карабкаться на стены – пустая забава по сравнению с борьбой против страстей и предрассудков целого народа.
Передо мной стояла очень трудная задача. Путь моей любви, по-видимому, будет тернистым путем.
* * *
Несмотря на однообразие жизни в четырех стенах, дни моего выздоровления прошли для меня довольно приятно. Меня окружали всеми удобствами, всем, что могло доставить мне удовольствие. Мороженое, прохладительные напитки, прекрасные цветы, редкие фрукты – я ни в чем не знал недостатка. Что касается моих трапез, то благодаря кулинарному искусству подруги Сципиона Хлои я познакомился с такими изысканными креольскими блюдами, как «гумбо» – отварная рыба с пряностями, жареные лягушки, горячие вафли, тушеные помидоры, а также со многими другими деликатесами луизианской кухни. Я даже не отказался съесть кусочек жареного опоссума, изготовленного собственными руками Сципиона, и однажды рискнул попробовать ломтик енота, но это было всего один раз, и то я почувствовал, что и одного раза более чем достаточно.
Сципион же без всяких колебаний поглощал этих своеобразных представителей лисьей породы и мог уничтожить добрую половину такого зверя за один присест.
Постепенно я познакомился с нравами и обычаями жителей луизианских плантаций. Старый Зип был моим наставником и постоянным собеседником. Когда мне надоедало болтать с ним, к моим услугам были книги, стоявшие на полках в моей комнате, главным образом французские. Среди них я нашел почти все, что было написано о Луизиане; по-видимому, составитель этой небольшой библиотеки был человеком весьма сведущим. Там же я нашел и прелестный роман Шатобриана[9 - Имеется в виду роман французского писателя Ф. Г. Шатобриана (1768–1848) «Аталла» (1801). Действие его происходит в девственных лесах Америки.], а также историю дю Пратца[10 - Дю Пратц Ле Даж (умер в 1775 году) – французский путешественник по Америке, автор «Истории Луизианы» (1758).]. Прочитав роман, я убедился, что в нем не хватает той правдивости, которая составляет, по-моему, главную прелесть всякого художественного произведения и которой не может достигнуть автор, пытающийся изобразить события и нравы, известные ему только понаслышке.
Что касается историка, то его книга была полна наивных преувеличений, характерных для писателей того времени. Это можно сказать решительно обо всех старых авторах, писавших об Америке, будь то англичане, испанцы или французы, – они описывали двухголовых змей, крокодилов длиной в двадцать ярдов или удавов такой величины, что они заглатывали всадника вместе с лошадью. Трудно понять, как эти авторы, рассказывая подобные небылицы, пользовались доверием читателей. Однако не следует забывать, что естественные науки находились тогда еще в младенческом состоянии, и никто не мог проверить эти «рассказы очевидцев».
Больше всего заинтересовали меня приключения и печальная судьба Ла Салля, и я очень удивлялся, что американские писатели не постарались осветить жизнь этого доблестного рыцаря, а также один из самых ярких эпизодов в истории своей страны, такой же интересной, как и ее природа.
«Ах, до чего же тут красиво!» – воскликнул я, когда в первый раз сел у окна и окинул взглядом открывшийся передо мной пейзаж.
Окно в моей комнате, как и все окна в креольских домах, доходило до самого пола. Когда я уселся в низком кресле перед распахнутым окном и откинул тонкие занавески, передо мной открылся широкий вид на равнину.
Это была великолепная картина! Ее яркие краски показались бы неправдоподобными, если бы их воспроизвел живописец. Мое окно выходило на запад, и величественная река катила передо мной свои желтые воды, сверкавшие на солнце, как чистое золото. На том берегу реки тянулись обработанные поля, на которых плавно качались высокие стебли сахарного тростника, резко выделяясь на фоне более темной зелени табачных плантаций. На этом берегу, недалеко от меня, стоял красивый дом, похожий на итальянскую виллу, с зелеными жалюзи и широкими верандами. Он был окружен апельсиновыми и лимонными деревьями, и их желтовато-зеленая листва весело блестела на солнце. Вокруг не видно было гор – их нет в Луизиане, но высокая темная стена кипарисов, окаймлявшая западный край равнины, напоминала далекую горную цепь.
Я находился в очень живописном уголке – в обнесенном оградой парке поместья Безансонов. Здесь я мог рассмотреть ближайшие растения и определить породу деревьев и кустарников, окаймлявших аллеи. Я видел магнолию с большими белыми, словно восковыми цветами, напоминающую огромную гвианскую «нимфу». Некоторые из ее цветов уже осыпались, и на их месте виднелись красные, как кораллы, шишки с семенами – пожалуй, не менее красивые, чем цветы.