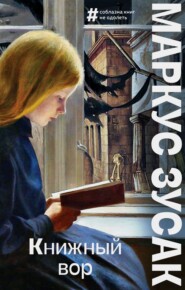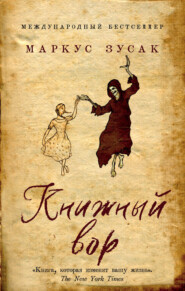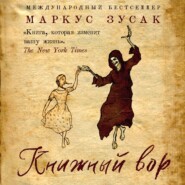По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Книжный вор
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мама вспыхнула.
– Не маши этому засранцу, – сказала она. – Давай, шевелись.
Тем вечером, моя Лизель в ванне, Мама особенно крепко скребла ее и все время бормотала про «этого свинуха Фогеля» и каждые две минуты изображала его.
– «Вам должны платить пособие на эту девочку…» – Растирая, она бранила голую грудь Лизель. – Столько ты не стоишь, свинюха. На тебе не разбогатеешь, так-то!
Лизель сидела и впитывала.
С этого знаменательного случая прошло не больше недели, когда Роза вызвала девочку на кухню.
– Так, Лизель. – Посадила ее к столу. – Раз уж ты по полдня болтаешься на улице, футбол пинаешь, можешь и делом там заняться. Для разнообразия.
Лизель уставилась только на свои руки.
– Что такое, Мама?
– Будешь теперь собирать и разносить стирку вместо меня. Этим богатеям не так легко будет нам отказать, если перед ними будешь стоять ты одна. А если спросят, где я, отвечай, что болею. И будь грустной, когда отвечаешь. Ты тощая, бледная, они тебя пожалеют.
– Герр Фогель меня не пожалел.
– Ну… – Мамино смятение было очевидно. – А другие могут. И нечего спорить.
– Да, Мама.
Секунду-другую казалось, что ее приемная мать сейчас приободрит Лизель, потреплет по плечу.
Вот и умничка, Лизель. Умничка. Хлоп, хлоп, хлоп.
Ничего подобного она не сделала.
Вместо этого Роза Хуберман встала, выбрала деревянную ложку и поднесла к носу Лизель. По ее убеждению, это было необходимо.
– Когда пойдешь, заходи с мешком в каждый дом и потом неси его сразу домой, вместе с деньгами, пусть их там всего ничего. Никаких заходов к Папе, если он вдруг в кои-то веки работает. Никаких лазаний в грязи с этим мелким свинухом Руди Штайнером. Сразу. Домой.
– Да, Мама.
– И когда возьмешь мешок, держи его как следует. Не размахивать, не мять и не закидывать на плечо.
– Да, Мама!
– «Да, Мама». – Роза Хуберман была выдающимся имитатором – и ревностным в придачу. – Смотри мне, свинюха. Я узнаю, если будешь размахивать, не сомневайся.
– Да, Мама!
Два эти слова часто оказывались лучшим способом спастись, а другой способ – делать, что говорят, и с того дня Лизель стала обходить улицы Молькинга с бедного конца на богатый, собирая и разнося белье. Поначалу труд был одинокий, хотя Лизель ни разу не пожаловалась. В конце концов, когда Лизель в самый первый раз вышла с бельем в город, она, едва свернув на Мюнхен-штрассе, оглянулась по сторонам и как следует – описав полный круг – взмахнула мешком, а потом проверила, как там содержимое. По счастью, никаких складок. Никаких морщин. И тогда – улыбка и обещание больше никогда не размахивать.
В общем, Лизель нравилось. Доли от платы ей не доставалось, но – не торчать дома и ходить по улицам без Мамы само по себе уже блаженство. Без тычков пальцем и проклятий. И люди не пялятся, когда Мама ругает за то, что неправильно несешь белье. Сплошная безмятежность.
И еще Лизель стали нравиться люди:
• Пфаффельхурферы – как они осматривают вещи и говорят: «Ja, ja, sehr gut, sehr gut!» Лизель представляла, что они все делают по два раза.
• Кроткая Хелена Шмидт – как она подает деньги ревматически скрюченной рукой.
• Вайнгартнеры, чья вислоусая кошка все время выходит с ними к дверям. Маленький Геббельс – так они ее звали, по имени первого помощника Гитлера.
• И фрау Герман, жена бургомистра, – как она стоит пушистоволосая и дрожащая в огромном, холодом веющем дверном проеме. Всегда безмолвная. Всегда одна. Ни слова, ни разу.
Иногда с ней ходил Руди.
– Сколько у тебя тут денег? – спросил он однажды ближе к вечеру. Уже почти стемнело, и они выходили на Химмель-штрассе, мимо лавки. – Ты же слыхала про фрау Диллер, да ведь? Говорят, у нее есть тайник с леденцами, и за нужную цену…
– И думать не смей! – Лизель, как всегда, крепко сжимала деньги в кулаке. – Тебе-то не страшно – не тебе перед моей Мамой отчитываться.
Руди пожал плечами:
– Попытка не пытка!
В середине января на уроках в школе проходили составление писем. После обучения основам каждый ученик должен был написать два письма – одно другу и одно – кому-нибудь из параллельного класса.
Письмо Руди к Лизель было написано так:
Дорогая свинюха, ты по-прежнему такая же никудышная на футбольном поле, какая была, когда мы играли прошлый раз? Надеюсь, что да. Значит, я опять тебя обгоню, как Джесси Оуэнз на Олимпиаде…
Когда сестра Мария увидела эта, она задала Руди вопрос – очень дружелюбно.
*** ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕСТРЫ МАРИИ ***
«Не желаете ли посетить коридор, герр Штайнер?»
Нечего и говорить, что Руди ответил отрицательно, письмо порвали, и он начал новое. На этот раз оно было адресовано кому-то по имени Лизель, и автор интересовался, есть ли у Лизель хобби, и какое.
Дома, составляя письмо, заданное на дом, Лизель решила, что писать Руди или еще какому-нибудь свинуху было бы, конечно, смешно. Какой смысл? Сидя над письмом в подвале, она заговорила с Папой, который в очередной раз перекрашивал стену.
Папа обернулся вместе с облаком паров краски:
– Was wuistz? – Это была самая грубая форма немецкого, на какой только можно разговаривать, но сказано это было с видом полнейшего довольства. – Ну, чего?
– Я смогу написать письмо маме?
Молчание.
– Зачем тебе понадобилось писать ей письмо? Тебе и так приходится терпеть ее каждый день. – Папа усмехнулся лукаво – дал «шмунцеля»[7 - От нем. schmunzeln – насмехаться.]. – Тебе этого мало?
– Не этой маме. – Лизель сглотнула.
– А. – Папа отвернулся к стене и продолжил красить. – Ну, наверное. Можно отослать его, как там ее – даме, которая привезла тебя сюда и потом приезжала несколько раз – из конторы по опеке.
– Не маши этому засранцу, – сказала она. – Давай, шевелись.
Тем вечером, моя Лизель в ванне, Мама особенно крепко скребла ее и все время бормотала про «этого свинуха Фогеля» и каждые две минуты изображала его.
– «Вам должны платить пособие на эту девочку…» – Растирая, она бранила голую грудь Лизель. – Столько ты не стоишь, свинюха. На тебе не разбогатеешь, так-то!
Лизель сидела и впитывала.
С этого знаменательного случая прошло не больше недели, когда Роза вызвала девочку на кухню.
– Так, Лизель. – Посадила ее к столу. – Раз уж ты по полдня болтаешься на улице, футбол пинаешь, можешь и делом там заняться. Для разнообразия.
Лизель уставилась только на свои руки.
– Что такое, Мама?
– Будешь теперь собирать и разносить стирку вместо меня. Этим богатеям не так легко будет нам отказать, если перед ними будешь стоять ты одна. А если спросят, где я, отвечай, что болею. И будь грустной, когда отвечаешь. Ты тощая, бледная, они тебя пожалеют.
– Герр Фогель меня не пожалел.
– Ну… – Мамино смятение было очевидно. – А другие могут. И нечего спорить.
– Да, Мама.
Секунду-другую казалось, что ее приемная мать сейчас приободрит Лизель, потреплет по плечу.
Вот и умничка, Лизель. Умничка. Хлоп, хлоп, хлоп.
Ничего подобного она не сделала.
Вместо этого Роза Хуберман встала, выбрала деревянную ложку и поднесла к носу Лизель. По ее убеждению, это было необходимо.
– Когда пойдешь, заходи с мешком в каждый дом и потом неси его сразу домой, вместе с деньгами, пусть их там всего ничего. Никаких заходов к Папе, если он вдруг в кои-то веки работает. Никаких лазаний в грязи с этим мелким свинухом Руди Штайнером. Сразу. Домой.
– Да, Мама.
– И когда возьмешь мешок, держи его как следует. Не размахивать, не мять и не закидывать на плечо.
– Да, Мама!
– «Да, Мама». – Роза Хуберман была выдающимся имитатором – и ревностным в придачу. – Смотри мне, свинюха. Я узнаю, если будешь размахивать, не сомневайся.
– Да, Мама!
Два эти слова часто оказывались лучшим способом спастись, а другой способ – делать, что говорят, и с того дня Лизель стала обходить улицы Молькинга с бедного конца на богатый, собирая и разнося белье. Поначалу труд был одинокий, хотя Лизель ни разу не пожаловалась. В конце концов, когда Лизель в самый первый раз вышла с бельем в город, она, едва свернув на Мюнхен-штрассе, оглянулась по сторонам и как следует – описав полный круг – взмахнула мешком, а потом проверила, как там содержимое. По счастью, никаких складок. Никаких морщин. И тогда – улыбка и обещание больше никогда не размахивать.
В общем, Лизель нравилось. Доли от платы ей не доставалось, но – не торчать дома и ходить по улицам без Мамы само по себе уже блаженство. Без тычков пальцем и проклятий. И люди не пялятся, когда Мама ругает за то, что неправильно несешь белье. Сплошная безмятежность.
И еще Лизель стали нравиться люди:
• Пфаффельхурферы – как они осматривают вещи и говорят: «Ja, ja, sehr gut, sehr gut!» Лизель представляла, что они все делают по два раза.
• Кроткая Хелена Шмидт – как она подает деньги ревматически скрюченной рукой.
• Вайнгартнеры, чья вислоусая кошка все время выходит с ними к дверям. Маленький Геббельс – так они ее звали, по имени первого помощника Гитлера.
• И фрау Герман, жена бургомистра, – как она стоит пушистоволосая и дрожащая в огромном, холодом веющем дверном проеме. Всегда безмолвная. Всегда одна. Ни слова, ни разу.
Иногда с ней ходил Руди.
– Сколько у тебя тут денег? – спросил он однажды ближе к вечеру. Уже почти стемнело, и они выходили на Химмель-штрассе, мимо лавки. – Ты же слыхала про фрау Диллер, да ведь? Говорят, у нее есть тайник с леденцами, и за нужную цену…
– И думать не смей! – Лизель, как всегда, крепко сжимала деньги в кулаке. – Тебе-то не страшно – не тебе перед моей Мамой отчитываться.
Руди пожал плечами:
– Попытка не пытка!
В середине января на уроках в школе проходили составление писем. После обучения основам каждый ученик должен был написать два письма – одно другу и одно – кому-нибудь из параллельного класса.
Письмо Руди к Лизель было написано так:
Дорогая свинюха, ты по-прежнему такая же никудышная на футбольном поле, какая была, когда мы играли прошлый раз? Надеюсь, что да. Значит, я опять тебя обгоню, как Джесси Оуэнз на Олимпиаде…
Когда сестра Мария увидела эта, она задала Руди вопрос – очень дружелюбно.
*** ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕСТРЫ МАРИИ ***
«Не желаете ли посетить коридор, герр Штайнер?»
Нечего и говорить, что Руди ответил отрицательно, письмо порвали, и он начал новое. На этот раз оно было адресовано кому-то по имени Лизель, и автор интересовался, есть ли у Лизель хобби, и какое.
Дома, составляя письмо, заданное на дом, Лизель решила, что писать Руди или еще какому-нибудь свинуху было бы, конечно, смешно. Какой смысл? Сидя над письмом в подвале, она заговорила с Папой, который в очередной раз перекрашивал стену.
Папа обернулся вместе с облаком паров краски:
– Was wuistz? – Это была самая грубая форма немецкого, на какой только можно разговаривать, но сказано это было с видом полнейшего довольства. – Ну, чего?
– Я смогу написать письмо маме?
Молчание.
– Зачем тебе понадобилось писать ей письмо? Тебе и так приходится терпеть ее каждый день. – Папа усмехнулся лукаво – дал «шмунцеля»[7 - От нем. schmunzeln – насмехаться.]. – Тебе этого мало?
– Не этой маме. – Лизель сглотнула.
– А. – Папа отвернулся к стене и продолжил красить. – Ну, наверное. Можно отослать его, как там ее – даме, которая привезла тебя сюда и потом приезжала несколько раз – из конторы по опеке.