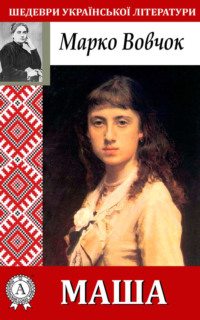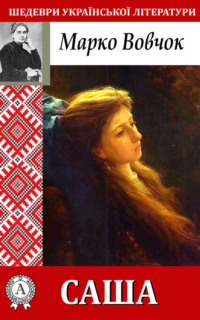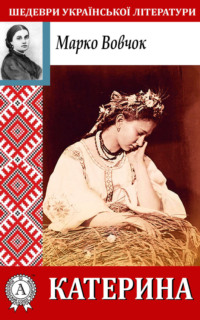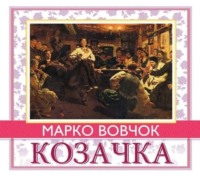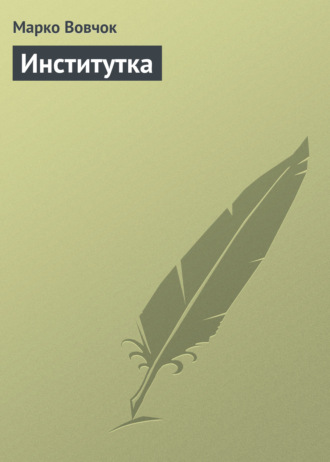
Институтка
– Выпьем, – говорит, – по полной: наш век недолгий. Будьте здоровы, у кого черные брови!
– Что это за водка? – говорит дядька. – Лучше воды напиться, чем такой сивухи.
– Кто захочет, так и воды напьется, – отозвался на это Назар.
– Горилочка, сдается, добрая, – заметила хозяйка.
– Чтоб тому шинкарю такое же житье доброе! – гаркнул дядька ей в ответ.
А сам взял да выпил. Выпьет, плюнет, выругает водку и опять выпьет.
Старуха дивится на него да головой качает, а наконец и не вытерпела:
– Что ж вы так ее хулите?
– Не твое дело, баба! – грянул дядька. – Мы для приятелей всякую водку пьем.
– Ну и на здоровье!
– Знайте нашу московскую доброту! – добавил Назар.
Мы ужинаем, разговариваем, а дядька все пьет да пьет. Побледнел весь и голову повесил. Смотрит он на нас с мужем, да и заговорил вдруг:
– Эх вы, молодежь, молодежь! Не долго вам пожить вдвоем – только вы не горюйте. Пожили, пороскошничали – и будет с вас. Ведь бывает и такое житье, что с самых пеленок ни ласки, ни добра не знаешь. Вот этак-то живи: без роду, без племени, без привету, со всеми удовольствиями.
Старуха обратилась к нему:
– А где же ваш род? Откуда вы сами?
– Из кантонистов, – отвечал солдат сурово, – из тех, коли что слыхали, в холеру много поубавилось. Роду у меня нет, не знал и не знаю.
– А матушка ваша?
– Сказал: не знаю; что без толку-то расспрашивать?
– Вот и я теперь безродная! – промолвила хозяйка, всхлипывая.
– И она туда же в люди суется! – загремел солдат. – Что твое горе – плюнуть! Вот горе-то, что некого вспомнить, никто и про тебя не вспомнит. Некуда пойти и негде остаться. Все тебе чужие, и все чужое: и хата, и люди, и одежа. Степняк! – обратился он к Назару. – Так, брат, меня со степей взяли; ну и хороши, чай, те степи были. Дай, баба, водки! Выпьем до дна: на дне молодые дни.
Сказал, а у самого слезы так и катятся, и смеется он и горилку тянет – все разом, потом упал на лавку и тут же заснул.
– Ну, по сей речи, до первой встречи, – сказал Назар. – Прощай, брат Прокоп. Да вот, погоди, чуть было не забыл: принес я тебе деньжонок малую толику – пять целковых. Возьми да живи на здоровье.
– Спасибо, брат. Не знаю, когда и отдать смогу.
– Гай, гай! были бы мы только живы! Это не панские деньги, а братские: от них не запечалишься. А я себе заработаю. Теперь я вольный, хоть на полгода, пока с собаками не поймали.
Сказал, распростился со всеми да и пошел. Только его и видели.
XLVI
Господи милостивый! Какое было тогда наше житье! Хоть и с нуждою пополам жили, а так мирно, благодатно, легко дышать, весело на свет божий глядеть, когда ты знаешь, что все, что ни заработаешь, все это на себя. Сижу ли я, говорю ли я – никого не боюсь; работаю ли я или нет – никто меня не приневолит, никто не тронет. Чувствую я и душой и телом, что живу…
Весною начали слухи ходить, что солдатам скоро в поход выступать.
«Это неправда», – говорю я самой себе, а сердце мое тотчас же почуяло, что правда; а тут и приказ: в поход, в поход сбираться.
Прокоп меня утешает, говорит, что беда эта временная.
– Ворочусь, – говорит, – будем мы тогда вольные.
– Так, так, – говорю, – так, мой голубь!
А сердце у меня болит, а слезы у меня текут…
Вот уже назначен день похода. Пошли мы в хутор попрощаться; панов не было, одну только старушку застали. Старушка моя милая! Я ее издали узнала на подворье, а узнавши ее, заплакала. Одной только душой она еще жива была… Подбежала я к ней, обняла ее, как родную мать.
– Что ты плачешь, моя голубка? – спрашивает она меня потихоньку.
– Вы тут остаетесь, в этом аду?
– Конечно, тут, моя пташка. Тут я родилась, тут я крестилась, тут осиротела – тут и умру.
– Да вы до смерти будете мучиться?
– И буду мучиться, моя пташечка.
Благословила она нас, как родных детей, наделила чем могла. Попрощались мы, пошли. Не раз и не два оборачивались мы, смотрели. На пороге стоит старушка, кругом тихо, везде светло. С поля ветерок дует, от леса холодком тянет, где-то вода шумит, а высоко надо всем играет-сияет ясное солнышко.
XLVII
Проводила я своего мужа до самого Киева. В Киеве я осталась служить, а он ушел с полком куда-то далеко, в Литву.
– Не суши себя слезами, мое сердце! – говорил мне мой муж на прощание. – Я надеюсь, что вернусь; надейся и ты, дожидайся меня.
Вот я и дожидаюсь его. Уж как долга эта солдатская служба! Вот уже семь лет прошло, как он пошел. Увижу ли я его когда? В своем селе я и не была. Слыхала от людей, что все живы, все там идет по-прежнему. Старушка живет, все переносит, а про Назара ни слуху ни духу.
Служу я, нанимаюсь, зарабатываю. Что наша копейка! Кровью она обкипела; зато мне иногда так легко, что даже весело станет, как только подумаю, что стоит мне захотеть – и тотчас же могу я бросить эту службу. Подумаю я этак и доживу до конца года. Утешает меня, помогает эта думка, что не связаны у меня руки. «Эта беда временная, не вечная», – думаю я тогда.
Как же мне хоть на минутку забыть моего мужа! Да меня и бог тогда забудет! Он мой муж, он мой и благодетель – подкрепи его матерь божия, а я вольная, и хожу я, и говорю, и смотрю на все весело, и нуждушки мне мало, есть ли еще горе на свете.