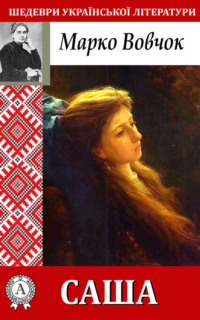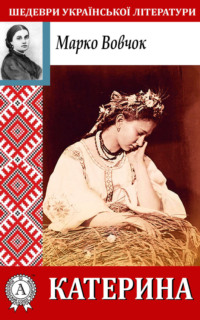Институтка
Господи боже! Какое наше грустное и томное было житье! Не слыхать смеху, не слыхать голоса человеческого; ни одна живая душа к нам на двор не завернет, разве по делу; и так всякий боязно оглядывается, так спешит, словно из лесу от лютого зверя уходит.
Запоздала я как-то раз после ужина и бегу поскорей через двор. «Что это Прокоп ужинать не пришел?» – думаю я… Вдруг, смотрю, он передо мною, перерезал мне дорогу и не дает уйти.
– Устино, скажи мне всю правду: любишь ли ты меня?
Ушла бы я от него, но ноги меня не несут. Стою, горю; а он меня за руку, прижимает, обнимает к себе и все спрашивает: «Любишь?» – такой странный! Сели мы, поговорили, слюбились – и все беды наши забыли. Весела душа моя, и свет мил, и так все на свете хорошо мне, так прекрасно! Уж, стало быть, хорошо мне было, когда сама пани заметила.
– Что с тобой? – спрашивает она меня. – Отчего ты так раскраснелась, словно кто тебя поколотил? Или, может быть, украла ты что-нибудь?
XXXIII
Боже мой милостивый, как, бывало, я вечера темного, тихого дожидаюсь! Прикажет мне пани идти ужинать, а Прокоп уже ждет меня. Встретит меня; мы постоим вдвоем, погорюем вместе; днем мы хотя и встретимся – так только переглянемся, словечка друг другу не промолвим, разойдемся.
– На горе вы слюбились! – говорит нам, бывало, Катря.
– Ну, разумна же ты, душа моя, хотя бы бесу под стать! – подтрунивает над нею Назар. – Если бы теперь тебе пришлось в другой раз меня полюбить, ты бы себе все пальчики облизала.
– Любовь у меня теперь на уме, как же! – ответит она. – Мне они оба теперь сердце сушат, как подумаю да рассужу.
– Что это вы девушку смущаете да пугаете! – заметит старушка. – Коли уж полюбила, пускай любит! Верно уж ей такая судьба выпала!
XXXIV
А пани наша что дальше, все злее становится, все лютее. Опоздаю ли я, замешкаюсь ли немного, «Где ты была?» – кричит она, и встречает меня лихая беда на панском пороге. Сперва я очень тужила, а потом мне все это не в диковинку стало, всякое руганье нипочем. Недаром сказано: «Встань, беда, да и не ложись». Бывало, пока она меня бранит, не под силу мне терпеть, слезы у меня польются ручьем, а наплачусь, оботру слезы – и опять я весела, и опять я играть и шутить готова, и коса у меня заплетена мелко, и сорочка на мне чистая. Никому про свое горе и слова не шепну. Какая мне в том польза! Только обиду свою тяжкую припоминать. Зато Прокоп ходит как темная ночь, и уж тогда ни еда, ни питье, ничто ему на ум нейдет.
Господи милосердый, и свое горе, и чужое горе!.. Не знаешь, что делать, с чего начать! У Катри ребенок заболел, а тут обед господам сготовь, ужин свари, огород вскопай, засей; а пани еще кричит:
– Не работаешь, дрянная! Вот я научу тебя работать!
По целым ночам Катря не спит, сидит над ребенком. Настанет день – она за работу; днем старуха за ребенком ухаживает, утешает Катрю: то ребенка к ней вынесет, то сама к ней выйдет, расскажет: утихла малютка или спит малютка. И так она, словно благодать божия, пособляет, неутомимая, неусыпная.
– Что это вы так, Катря, трудитесь без отдыха? – говорю я ей.
– Буду работать, работать, пока сил хватит (а впалые глаза у ней так и горят), – может, угожу, может, умилостивлю!
Но не угодила и не умилостивила: работала она днем и ночи не спала, пока не забывалась мертвым сном возле люльки. Очнулась… к ребенку… а ребенок уже на божьей дороге. Только взглянула на него бедная мать, только схватила его к сердцу, а он уже преставился…
Убивалась Катря, и мучилась, и радовалась.
– Пускай же, мое дитя, мое милое, дорогое, будет ангелочком божиим: горя не будет знать, мое родненькое!.. – А потом вдруг заголосит: – А кто ж ко мне рученьки протянет, кто меня обрадует на сем свете? Дитя мое! Покинула ты меня, моя доченька…
Назар как будто и ничего, утешает свою Катрю, молодой ее век ей напоминает, а у самого уже зычный голос гораздо тише сделался, и горюет он ото всех тайком.
С той печали совсем ослабела, извелась Катря. Не то что работать – и ходить она не в силах; а пани все свое:
– Что ты не работаешь? Я тебе то, я тебе это!
– Теперь я уж не боюсь вас! – ответила Катря. – Хоть живьем съешьте меня теперь!
Ну и задала же ей пани!..
– Прокоп, – говорю я ему, – что же с нами-то будет?
– Устино, сердце мое, связала ты мне руки!
XXXV
Прогнала пани Катрю со двора на панщину: не уважила она ее мужа-кучера.
Пан тайком от пани хотел ей деньги дать, да не взяла их Катря. Он положил ей целковый на плечо, а она его с себя сбросила, словно лягушку; и как упал тот целковый в траву, так и залег там, даже почернел – никто до него не дотронулся. Уж сама пани, расхаживая по двору, увидела тот целковый и подняла.
– Это, верно, ты, ты деньги сеешь! – сказала она пану. – О боже мой, боже мой!
Пан не отвечал ничего, только покраснел весь.
А Катря не захотела жить на свете. Что-то приключилось с нею после того, как над ней надругались. Бегала она по лесам да по болотам: все своего ребенка искала, а потом и утонула как-то, бедняжечка!
Пан крепко опечалился, а пани говорит ему:
– Чего тебе смущаться бог знает чем? Разве ты не заметил, что она издавна была помешанная? И глаза у ней какие-то были странные; и что она ни скажет, все невпопад.
Пан ухватился за это слово.
– И впрямь, – промолвил он, – не в полном уме она была.
Помешанная да помешанная, чего еще? Потолковали меж собой и успокоились оба.
XXXVI
Наняли себе господа какого-то москаля-солдата из города в повара. То-то был странный человек! Сготовит он господам обед, сам пообедает, да и ляжет на лавку, и все свищет, все свищет да свищет – да вдруг как запоет, звонко так и тонко, точно петух. Мало ему нуждушки было до нашего горя. Только спросит, бывало:
– Что, сегодня били? – И прибавит: – Иначе нельзя: на то служба.
И Назар уж не тот стал, и он уж словно опустился; а все подшучивает:
– Когда бы хотя один день кто мне послужил, я бы этого до самой смерти не забыл!
Пани нового повара очень хвалит, что «какой он человек хороший и как меня он уважает, как почитает меня»; а он, бывало, как станет перед ней, то, как стрела, выпрямится, руки опустит, глазами в нее уставится.
– Ловил я рябого поросенка, ушел рябой поросенок в бурьян, тогда я за черного поросенка; поймал я черного поросенка, ошпарил я черного поросенка, зажарил я черного поросенка, – так это он чисто отбарабанит и ждет, что ему пани скажет, а сам только хлоп-хлоп глазами.
А пани ему то и дело:
– Хорошо, хорошо, все это хорошо. Только ты смотри у меня, не избалуйся с моими волчьими душами.
– Никогда я того не посмею, ваше высокоблагородие.
Поклонится ей низко, потом направо, налево, ногами шарк – да и опять на лавку, и опять свищет.
– Эх! Чтоб вас! – говорю я ему однажды. – Когда это вы свистеть перестанете? Тут горе, тут напасть, муки кровные, а вы…
– Не горюй, не горюй, девка! На то она служба прозывается! Вот видишь, сколько у меня зубов осталось? На службе потерял. Был у нас капитан… Ух!.. – И он только ухнул. – А ты что думала? Как жить на свете, как служить, как выслуживаться? Тебя бьют, тебя рвут, морочат тебя, порочат, а ты знай стой, не моргни. Упаси бог!
Сказал и опять принялся свистеть. А Прокоп с сердцов даже трубку об землю хватил.
– Волы в ярме и те ревут; а чтоб христьянская душа всякий укор да неправду терпела и словом не отозвалась! – грянул он на солдата, так что даже тот свистеть перестал. Дивится на него, как козел на новые ворота. – Не такой у меня нрав, – продолжал Прокоп, – по-моему, или освободись, или пропадай!
– А у меня так вот какой нрав: убеги! – захохотал Назар. – Мандрівочка – рідна тіточка.
– Поймают! – вскрикнул солдат и на ноги вскочил. – Поймают – пропал!
Что у кого ни было на сердце, а все засмеялись.
– Не всякий капитан такой проворный уродится, – промолвил Назар. – А ты вот лучше скажи: куда уйти, чтобы не было того, как в пословице говорится: «От какой беды ушел, такую и встретил», из лохмотьев – да в рубище. Та все пани, та все дуки, – запел он вдруг, точно в колокол ударил.
XXXVII
Год спустя померла старая пани. Больно не хотелось ей умирать. Всё молитвы, священное писание читала, по церквам молебны заказывала; свечи перед образами неугасимые пылали. Как-то случилось, что девчонка зазевалась и свечка погасла, – велела старуха девку высечь. «Ты, говорит, грешница: моему спасенью вредишь!»
XXXVIII
Наша пани крепко горевала о своей бабушке.
– Одна уж я теперь осталась на свете: обдерут теперь меня, как липку! Мой глаз за всем не усмотрит. А на тебя, – говорит она пану, – какая надежда?.. Ты ничего не припасешь, а разве последнее растратишь. Ты и не думаешь о том, что нам господь скоро ребенка даст. Ради его, если не ради меня, опомнись, мой друг, хозяйничай, присматривай за всем.
– Что это ты, душенька, бог с тобой! Вот опять ты от всего тревожишься! Я все сделаю, что ты только захочешь, все.
Так-то, бывало, уговаривает ее пан.
Однажды захотелось ему развеселить ее, и говорит он ей:
– Полно тебе, голубка, беспокоиться; ты послушай-ка лучше, что я тебе скажу: я уже кума пригласил.
– Кого это? – подхватила пани.
– Товарища; какой славный человек, добрый!
– Боже мой! Я тотчас догадалась: пригласил какого-то бедняка. Я и знать этого не хочу; не будет этого, не будет!
И принялась она плакать навзрыд.
– Сердце мое, не плачь, – просит ее пан. – Душа моя, заболеешь. Не будет того кума. Я извинюсь перед ним – и полно. Скажи только, кого ты хочешь, того я и приглашу.
– Полковника надо просить – вот кого!
– Полковника так полковника; завтра же поеду к нему. Ну, извини меня, душенька, что я чуть-чуть не огорчил тебя.
– То-то и есть, что ты совсем меня не жалеешь, все меня огорчаешь.
– Голубка моя, – промолвил пан потихоньку, – пощади ты меня… Ты все сердишься, кричишь, гневаешься, а я надеялся…
Да как зарыдает вдруг… Пани к нему:
– Что с тобой? Что ты?
Хочет она взять его за руки, а он закрылся обеими руками да рыдает, рыдает. Насилу она его уговорила, она и целовала его и обнимала; насилу он успокоился.
– Да скажи ты мне, отчего ты так заплакал? Ну скажи! – начала она его умолять да просить.
– И сам не знаю, душа моя, – ответил пан, как будто улыбаясь, – так, нашло что-то. Мне немного нездоровится. Ты об этом не думай, а лучше посмейся надо мной, что я расплакался, как ребенок.
– Ты, может быть, думаешь, что я не люблю тебя? – говорит ему пани.
– Нет, любишь.
– Люблю, да еще как! А вдвоем невозможно беспрестанно сидеть: надобно хозяйничать, сердце мое!
И она его поцеловала.
Рано поутру поехал пан к полковнику и пригласил его в кумовья.
XXXIX
Родился сын у пани. Сколько гостей наехало на крестины! Обед устроили на славу. Кум-полковник прикатил на двор на серых лошадях с колокольчиками да с бубенчиками. Из себя он был дородный, круглолицый, красный. Правой рукой все ус покручивал, а левой саблю придерживал да плечи поднимал кверху.
Я обрадовалась случаю, что мне немножко вольнее стало, и выбежала к Прокопу. Стою, разговариваю с ним около крыльца. Откуда ни возьмись, пан, веселый такой, какой он был в то время, как ухаживал за пани.
– Что вы тут стоите оба? О чем вы разговариваете? – спрашивает нас, а сам смеется.
А Прокоп ему:
– Пане, отдайте за меня эту девушку.
– Хорошо, бери, Прокопе, я не препятствую. Перевенчайтесь да живите себе ладненько.
– А пани? – спросил Прокоп.
Пан вздохнул, задумался да и говорит:
– Идите за мной; возьми ее за руку, Прокопе.
Сам пошел в покои, а Прокоп ведет меня за ним да руку мою сжимает.
– Душенька, – сказал пан, – я вот тебе молодых привел. Понравятся ли они тебе?
А тут в комнате панов, пани! И полковник между ними, словно индюк переяславский, похаживает да все пыхтит понемножку. Наша сидит в кресле, взглянула на нас и отвернулась. Веселая усмешка пропала у ней с лица. Гневно посмотрела она на пана и спрашивает:
– Что это такое?
Прокоп кланяется, просит.
– Я уже позволил, – говорит пан. – Не препятствуй и ты, моя милая. Дал господь нам счастья, пусть и они будут счастливы.
Пани все молчит да губы кусает, а полковник выдвинулся вперед, да и загудел, как на трубе:
– Парочка хорошая, бесовы дети, парочка хорошая, оба хороши! Надобно их перевенчать, кума моя любезная. Хочешь замуж, девка? – спрашивает он меня.
А сам хочет мне мигнуть и глаз один зажмурил, но никак мигнуть не может: выпил сильно.
Все господа за ним так и подхватили:
– Жените их! Жените! Слышите ли, что кум ваш, полковник, говорит: что парочка хорошая.
Наконец пани проговорила:
– Ну, пускай себе!
Мы и не опомнились, как через порог перескочили. Тотчас же, ничего не приготовив, наскоро мы перевенчались, чтоб еще нас пани не разлучила.
Крепко она гневалась на пана.
– Как это ты подвел меня? – упрекала она пана. – Я этого не могу тебе простить: как это ты меня подвел? А тебе, – грозится она на меня, – тебе достанется, будет тебе ужо!
Будет что будет, а все же мы перевенчаны.
Какое мое утешение, что я уже могу с ним быть при людях, глядеть на него, что он уже мой!
XL
Я осталась при пани, как и была. Еще больше ломается она надо мной, еще больше привередничает и все приговаривает:
– А что, каково тебе замужем, лучше или нет?
Как не поговорит со мной муж, как не приголубит меня, так иной раз так тяжко, что, кажется, рада бы сквозь землю провалиться; а сойдусь я с ним – весело мне, любо, все горе забуду. Только муж мой что далее, все пасмурнее становится; даже сердце мое болит, на него глядя.
– Ты меня уже не любишь, Прокоп? – спрошу я его.
Он прижмет меня к груди и так любовно в глаза мне посмотрит, что, кажется, крылья у меня вырастают.
– Отчего же ты все такой печальный, Прокоп? Ведь уж мы теперь навеки соединены.
– О, мое серденько, тяжело было мне без тебя, а с тобою еще тяжеле!.. Каково-то ожидать каждую минуточку укору тебе, а защищать нет сил… Тяжело, Устя!
– Мы как-нибудь с тобой переживем беду, Прокоп. По мне, вдвоем все-таки легче.
– А ты, может быть, и права, моя рыбочка.
И усмехнется он, и приголубит меня. А уж как я рада, что развлекла его, развеселила!
XLI
Жили мы таким образом с нуждою да с горем до самой осени. Тут над нами и стряслась беда.
В один осенний день мы в саду собирали яблоки в корзины. Муж мой взлезет на яблоню, встряхнет ее и все на меня посматривает то из-за одной ветки, то из-за другой. Старушка немножко устала, села отдохнуть.
– Вот уж и лето красное минуло, – промолвила она. – Солнышко еще светит, а уж не греет.
Сказав это, она огляделась кругом.
– Устинья, голубушка, это, кажется, дети из-за плетня выглядывают.
Я взглянула. В самом деле около тына собралась кучка ребятишек.
– Ну, что скажете, детки? – спрашивает их старушка.
Малютки молчат и только глазами косятся на корзины с яблоками.
– Подойдите-ка поближе, хлопченята; я вам по яблочку дам, – говорит им старушка.
Дети так и высыпали в сад. Окружили они старуху, как воробьи рябину, и старуха начала им раздавать яблоки. Поднялся гул, говор вокруг нас: известное дело – дети. Как вдруг, откуда ни возьмись, пани.
– Это что такое? – загремела она.
Переполошились дети: кто заплакал, а кто побежал, только топот раздался, а у меня сердце забилось.
– Это я по яблочку деткам дала, – ответила спокойно старушка.
– Ты дала? Ты смела! – закричала пани, а сама даже затряслась. – Ты, мужичка поганая, мое добро крадешь, воровка!
– Я воровка? – промолвила старушка и побледнела, как платок, а глаза у ней засверкали и слезы потекли.
– Больше ты уж не будешь красть, – кричит пани, – я тебя давно уж караулю, а ты вот когда попалась! Господские яблоки раздавать!..
– Не крала я отроду, – отвечает старуха по-прежнему спокойно, только голос ее звенит. – Сам пан никогда этого не запрещал, всегда детей одаривал! Посмотрите, неужто этого мало для вашей души?
– Молчи! – взвизгнула пани, наскакивая на нее.
Затрещали ветки, и из-за зеленых листьев выглянул мой муж, да так страшно глядит! Я только глазами его упрашиваю.
– Воровка, воровка! – твердит пани, вкогтившись старухе в плечо, и дергает ее, и толкает.
– Понапрасну меня обижаете: я не воровка, пани. Я весь век свой прожила честно, пани.
– Ты еще спорить со мной!
Да с размаху, как топором, старуху по лицу!
Зашаталась старуха. Я бросилась к ней, пани ко мне, мой муж – к пани…
– Спасибо, мое дитятко, – говорит мне старуха. – Не беспокойся, не гневи пани.
А пани уже вцепилась в мои косы.
– Полно, пани, полно! – крикнул мой муж, ухватив ее за обе руки. – Этого уже не будет, полно!
Пани от гнева и от удивления великого сперва только вскрикивала: «Что? как? а?», да, опомнившись немного, бросилась было на Прокопа, а он опять свое: «Нет, полно!»
Тогда она принялась кричать. Сбежались люди, смотрят на нас. Пан примчался что было духу:
– Что это?
Мой муж выпустил тогда пани из рук.
– Вот твои добрые души, – едва проговорила пани. – Благодарю тебя. Да что ж ты молчишь? – закричала она вдруг во весь голос. – Мне чуть руки не выломали, а ты молчишь!
– Что такое сделалось? – спрашивает пан на все стороны в великой тревоге.
Пани и начала: и обокрала-то ее старуха, и все-то хотели ее смерти. Уж натолковала она ему, а сама и всхлипывает, и кричит, и бранится, так что и пан наконец разозлился. Как кинется к моему мужу!
– Разбойник!
– Не подходите, пане, не подходите! – отозвался муж мрачно.
– Эге! Вижу! – воскликнул пан. – Тебе здесь места мало!.. Погоди же: погуляешь в солдатах сколько угодно! – Пан прямо визжит: – В солдаты его, в солдаты! Теперь присутствие в городе. Сейчас и везти его! Возьмите его! – крикнул он на людей. – Свяжите ему руки!
Прокоп не сопротивлялся, сам руки протянул, еще и усмехнулся.
А Назар говорит мне под шумок:
– Чего ты испугалась? Чего плачешь? Хуже не будет; вот будет ли лучше – не знаю!
XLII
Заперли Прокопа в хату. Караул стоит у дверей. На дворе снаряжают повозку. Назар лошадей под пана закладывает.
Долго сидел в раздумье мой муж.
– Устино, – промолвил он наконец, – сядь возле меня.
– Что ты сделал, мой голубь! Что ты сделал! – говорю я ему.
– А что я сделал? Будешь на воле, вот что! Будешь вольная, Устина!
– Воля, – говорю, – да без тебя!
Так мне горько стало!..
– Воля! – как крикнет он. – Воля!.. Но на воле и горе и напасть не страшны. На воле я горы потоплю. А крепаку как ни повезет, все равно добро на лихо обернется.
На дворе застучала тележка. Повели Прокопа; посадили. Я, в чем была, вскочила к нему. Старуха нас обоих благославляет.
– Помоги вам матерь божия! – говорит она нам, а слезы тихие так и льются из ласковых глаз.
Помчали нас. Как еще пани меня не хватилась, наставляя на дорогу пана! Не пустила бы она меня.
Едем молча, взявшись за руки. Я не плачу, не тоскую, только сердце бьется да трепещет.
Подъезжаем мы к городу. Вдруг нас пыль обдала – это пан нас обгонял. Въехали мы в город. Скоро прогремели мы по улицам и остановились у высокого дома.
Выпустил Прокоп мою руку.
– Устя, – говорит, – не горюй.
Повели его на прием. Я села на крыльце, как на кладбище.
– Не тоскуй, – говорит мне Назар. – Біс біду перебуде: одна мине, десять буде.
А сам Назар уже начал седым волосом, как снежком, пересыпаться. Утешает меня, а на самом на нем видно, что уж ничто его не утешит.
Вот наконец выводят моего мужа. Боже мой милостивый! Сердце у меня замерло, а он весел, как в светлый праздник.
XLIII
Осталась я с мужем в городе. Пролетело то времечко так быстро – вот как искра мелькает. Но до самой смерти я его не забуду.
Тотчас же моего мужа поручили дядьке, настоящему солдату, учиться войсковой науке; а дядька этот был высокого роста, глаза имел черные; волосы и усы торчали у него, как щетина; ходил прямо, говорил громко, держал себя гордо.
Вот мы ему кланяемся, а он ничего, только нахмурился и осматривает Прокопа. Дает ему Прокоп деньги.
– Извините, – говорит, – дядько, что мало. Крепак не много себе нагорюет.
Дядька кашлянул, плюнул:
– Пойдем!
– Пойдем на базар, душа, погуляем, – говорит мне Прокоп.
Мы и пошли. Ходим мы улицами и переулками, гуляем себе, а он меня спрашивает:
– Ну что, Устино, чувствуешь ли ты, что уже ты вольная душа?
А сам смеется и заглядывает мне в глаза. Хоть и было у меня на душе неспокойно, хоть и тужило мое сердечко, а все-таки я усмехнулась и как будто порадовалась.
Нашла я хатку такую, что внаем отдавалась, а денег у нас нет, да и добыть их откуда? Продать нечего: я, как поехала из дому, ничего с собой не взяла; да и не велики сокровища были у меня там. Несколько сорочек, да две исподницы, да какая-нибудь юбочка, да кожушаночка. Не до того мне было тогда, чтобы забирать с собой все это, а после пани не отдала. Вот я и подумала: «Пойду-ка я в поденщину». Посоветовалась с Прокопом, да и пошли мы к хозяйке, что хату внаем отдавала. Рассказали ей о своей беде, да и спрашиваем у нее: будет ли она согласна, чтоб мы ей за хату поденно платили?
– Хорошо, – говорит, – будут у вас деньги, платите мне поденно; а не будут, так я и подожду.
Мы и перебрались к ней в хату.
XLIV
Хозяйка наша была вдовушка старенькая, приветливая, ласковая и уж какая говорливая! Рассказывает да рассказывает, и все про свое горе, что весь их род извелся, что одна она осталась на белом свете, словно былинка в поле. Вздыхает беспрестанно, а то и всплакнет; и об нас довольно она слез пролила. Бывало, мы сидим с мужем, толкуем, а она начнет плакать да причитывать, что вот, мол, какие мы молоденькие, какие – как бы не сглазить – хорошенькие, жить бы нам жить да людей веселить. Причитывает да плачет. Мы ее уговариваем, останавливаем – нет, не берет! Разве тогда она только утихнет, когда дядька войдет да крикнет на нее:
– Опять баба киснет!
А она его сильно боялась: ни заговорить с ним, ни спросить его ни о чем не смела.
– Что это за человек на свет родился! – говорит, бывало, Старуха. – Какой же он грозный да неласковый – оборони бог! Или у него роду-племени никогда не бывало, или что… Господь его знает!
Ранехонько вскочу, бывало, и бегу на поденщину, возвращаюсь поздно. В руке у меня заработанные деньги – весело поспешать домой! Еще на дороге муж меня встретит и спросит потихоньку:
– Чай, наморилась, Устя?
XLV
Вот однажды вечерком сидим мы в хате. Солдат на лавке с трубкой, хозяйка у окошечка, а мы с Прокопом поодаль. Сидим мы все молча – вдруг кто-то постучался к нам, и…
– Здравствуйте! – загремело за дверью.
– Да это Назар?
И точно он. Вошел и стоит перед нами, чуть головой потолок не подпирает, трубка в зубах, а седина словно попряталась в густые кудри.
– Бог помочь хозяйке и всем!
– Спасибо, милости просим, – приветствует его старуха.
– Откуда ты взялся, Назар? – спрашивает его Прокоп. – Ни дать ни взять из земли вырос!
– Я, – говорит, – оттуда, откуда добрые люди выглядывают, мандрівочки поджидают.
Дядька зашевелился, посмотрел на дверь.
– Чего ты вертишься, пан солдат? Ты нас не дичись: мы одной с тобой веры.
Дядька все смотрит на окна да на дверь.
– Эка, какой ты быстрый! Чего смотришь? Не ветер ли в поле поймать хочешь? Ты сам, я вижу, степняк, так и не пытайся – не поймаешь, а лучше дай мне трубку закурить. Ну, каково вам тут живется? Почему у вас в городе молодицы хорошие да пригожие (тут он подмигнул мне)?
– А у вас там каково? – спрашиваю я у него.
– У нас-то? У нас на выбор дают, на людскую волю: хочешь – плачь, хочешь – голоси!
– Ох, горе, горе! Несчастная моя головушка! – начала жаловаться хозяйка.
Солдат только ус покрутил.
– А старуха? – спрашиваю я.
– Живет; старуха все перетерпит. Вам кланяется.
Я спрашиваю о себе: что пани обо мне говорит?
– Эге! Досталось за вас обоих пану на орехи. «Чрез твое, говорит, баловство мы двух работников потеряли. Кто ж в дураках остался?» Это пани говорила. А я скажу: дурак не дурак, а стоя перед ней, наш пан на разумного нисколько не походил.
Хозяйка между тем ужинать нас просит. Назар достал из-за пазухи фляжку горилки и поставил на стол.