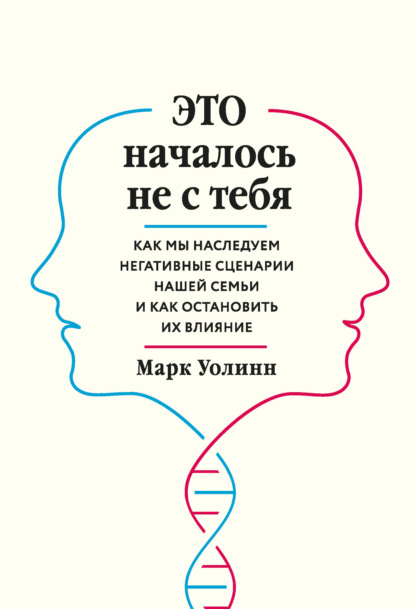По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Это началось не с тебя. Как мы наследуем негативные сценарии нашей семьи и как остановить их влияние
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тем не менее я решил не касаться своих представлений о том, кто я есть. Для этого мне достаточно было уцепиться за мысль о том, что я – человек, продвинутый в медитации. Затем я стал искать другого духовного учителя – такого, который, как я верил, расставит все по своим местам. Этот человек наполнял сотни людей в день своей божественной любовью. Конечно же, он увидит, какой я глубоко духовный; именно таким я себя тогда представлял. И вновь я прождал в очереди весь день, и она подошла. Я стоял впереди всех. Тогда это произошло. Опять. Те же слова. «Позвони родителям. Езжай домой и примирись с ними».
В этот раз я услышал, что мне сказали.
Великие учителя знают. По-настоящему великих учителей не заботит, веришь ли ты в их учения или нет. Они дают тебе правду, а затем оставляют наедине с самим собой, чтобы ты нашел собственную истину. Писатель Адам Гопник в своей книге «Сквозь детскую калитку»[6 - Through the Children’s Gate: A Home in New York.] говорит о разнице между гуру и учителями: «Гуру дает нам себя самого, а затем свою систему. Учитель дает нам учение, а затем себя».
Великие учителя понимают, что то, откуда мы пришли, влияет на то, куда мы идем, и что неразрешенный груз прошлого влияет на настоящее. Они знают, что родители – важны, вне зависимости от того, были они хорошими или нет. Обойти это нельзя. История семьи – наша история тоже. Нравится нам это или нет, она живет в нас.
Какими бы ни были отношения, родителей невозможно стереть или вырвать из памяти. Они есть в нас, а мы – часть их, даже если никогда не виделись с ними. Отвергая их, мы лишь дальше отходим от себя и увеличиваем страдания. Оба учителя смогли это увидеть. Я – не смог. Моя слепота была и буквальной, и фигуральной. Теперь я начал потихоньку просыпаться, понимая, что дома я оставил полную неразбериху.
Годами я довольно жестко судил о своих родителях. Я представлял себе, что я эффективнее, гораздо чувствительнее и человечнее, нежели они. Я винил их за все плохое в своей жизни. Теперь я должен был вернуться к ним и восстановить то, чего мне недоставало – восприимчивость. Я начал понимать, что моя способность принимать любовь от других была связана с тем, как я принимаю любовь от своей матери.
Я понимал, что принять ее любовь будет трудным испытанием. У меня был настолько глубокий разрыв с матерью, что, когда она обнимала меня, я воспринимал это как медвежий капкан. Мое тело автоматически деревенело, как будто формируя панцирь, сквозь который она не могла бы пробраться. Эта внутренняя рана наложила отпечаток на каждый аспект моей жизни – особенно на способность быть открытым в личных отношениях.
Мать и я могли не разговаривать месяцами. А когда говорили, я находил способ или через слова, или через язык тела, выражавший оборону, свести на нет те теплые чувства, которые она проявляла по отношению ко мне. Я держался холодно и отстраненно. Одновременно я обвинял ее в том, что она не в состоянии услышать и понять меня.
С твердым намерением восстановить порванные отношения я забронировал билеты домой в Питтсбург. Я шел по дороге и почувствовал в груди напряжение. Я отнюдь не был уверен, что наши отношения можно восстановить; внутри меня бурлили различные чувства. Я готовил себя к худшему, проигрывая в уме возможные сценарии: она меня обнимет, а я, желая расслабиться в ее руках, сделаю как раз противоположное. Я задеревенею.
В принципе это и произошло. С трудом дыша, я едва вытерпел ее объятия. Однако попросил ее, чтобы она продолжила обнимать меня. Я хотел понять изнутри сопротивление моего тела, где именно я напрягался, какие ощущения возникали, как я закрываюсь от нее. Информация для меня не была новой. Я видел, как этот паттерн проявлялся и в моих личных отношениях. Только на сей раз я не уходил от него. Мой план был – залечить рану в самом ее источнике.
Чем дольше она обнимала меня, тем больше мне казалось, что я взорвусь. Это было даже физически больно. Боль превращалась в онемение, а онемение – в боль. Затем, по прошествии многих-многих минут, наконец что-то поддалось. Грудь и живот начали дрожать мелкой дрожью. Я начал расслабляться, и в течение следующих недель напряжение начало уходить.
В одном из многих разговоров, которые происходили в то время, практически случайно она рассказала мне об одном происшествии, которое произошло, когда я был маленьким. Ее должны были госпитализировать на три недели, ей предстояла операция на желчном пузыре. Получив эту информацию, я начал сопоставлять, что происходило внутри меня. Где-то в возрасте двух лет – именно тогда нас с матерью разделили – в моем теле начало появляться какое-то смутное напряжение. Когда мама вернулась, я перестал доверять ее заботе. Перестал воспринимать ее. Я стал отталкивать ее и продолжал это делать на протяжении последующих тридцати лет.
Все, что с нами происходит, несет свой смысл, вне зависимости от того понимаем мы его или нет. Все, что случается в нашей жизни, в конце концов, ведет нас к чему-то.
Другое событие в ранние годы моей жизни, вероятно, также повлияло на страх, что жизнь может быть внезапно разрушена. Мать рассказала мне, что у нее были трудные роды, и во время них доктор использовал щипцы. В результате я родился с множественными синяками и частично сплющенным черепом, что довольно обыденно для родов с применением щипцов. Мать с сожалением поведала мне, что я выглядел так, что ей даже было трудно в первый раз взять меня на руки. Ее история нашла во мне отклик и помогла объяснить чувство, что я «раздавлен», жившее где-то глубоко внутри меня. Особенно травматические воспоминания, заложенные при моем рождении, давали себя знать, когда я «рождал» новый проект или представлял его перед аудиторией. Только одно понимание этого вернуло мир в моей душе. Также это неожиданно сблизило нас с матерью.
Налаживая отношения с ней, я начал строить заново свои взаимоотношения и с отцом. Он жил один в маленькой, захудалой квартирке – той же, в которой поселился после развода (мне тогда было тринадцать). Мой отец, в прошлом солдат морской пехоты и строительный рабочий, даже не озаботился приведением в порядок собственного жилища. Старые инструменты, болты, шурупы, гвозди, мотки проводов и изоленты валялись по всем комнатам и коридорам – так же, как и много лет назад. Когда мы стояли посреди этого моря ржавого железа и стали, я сказал ему, что соскучился по нему. Казалось, что слова растворились в пустоте. Он не знал, что с ними делать.
Я всегда жаждал близких отношений с отцом, но ни он, ни я не знали, как позволить этому случиться. Однако на сей раз мы продолжили разговор. Я сказал ему, что люблю его и что он был хорошим отцом. Я поделился с ним воспоминаниями о том, что он делал для меня, когда я был маленьким. Я чувствовал, что он вслушивается в то, что я говорил ему, хотя его действия – пожимание плеч, попытка сменить тему – вроде бы свидетельствовали об обратном. Потребовались многие недели разговоров и обмена воспоминаниями. Как-то раз за обедом он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Я никогда не думал, что ты любишь меня». У меня перехватило дыхание. Стало очевидно, какая огромная боль переполняла каждого из нас. В этот момент что-то переломилось. Открылись наши сердца. Иногда в сердце что-то должно переломиться, прежде чем оно откроется. В конце концов, мы начали проявлять свою любовь по отношению друг к другу. Теперь я видел результаты того, что я поверил словам своих духовных учителей и вернулся домой, чтобы исцелить отношения с родителями.
Впервые, сколько себя помнил, я разрешил себе принимать любовь и заботу своих родителей – и не ту, которую я когда-то от них ждал, а ту, которую они были в состоянии мне дать. Что-то во мне открылось. Не имело значения, насколько сильно они любили меня. Важным стало, как я получал то, что они могли дать. Они остались прежними, какими были всегда. Изменения произошли во мне. Я возвращался к тому чувству любви, которое должен был чувствовать тогда, в детстве, до того, как разрушилась моя связь с матерью.
Ранняя разлука с ней, вместе с другими травмами, которые я унаследовал из семейной истории (особенно тот факт, что три моих деда потеряли матерей в раннем детстве, а прабабушка лишилась отца в младенчестве, а вместе с ним и львиной доли внимания матери, которая была погружена в свое горе), и сформировали мой тайный язык страха. Такие слова, как «один», «беспомощный», «раздавлен» и все сопутствующие им чувства, наконец стали терять свою силу и больше не сбивали меня с пути. Мне подарили новую жизнь, и нынешние отношения с родителями составляли ее значительную часть.
За несколько месяцев я восстановил нежные отношения с матерью. Ее любовь, когда-то казавшаяся назойливой и раздражающей, теперь успокаивала и прибавляла сил. Мне повезло, что еще шестнадцать лет я наслаждался близкими отношениями с отцом. Страдая от старческой деменции в последние четыре года своей жизни, он преподал мне, наверное, самый значительный урок открытости и любви в моей жизни. Мы встречались там, за гранью мысли и ума, где существовала только глубочайшая любовь.
Во время путешествий я встречал много великих учителей. Оборачиваясь назад, я понимаю, что мой глаз – изможденный, проблемный, рождавший ужас глаз – заставил меня проехать полмира, вернуться к родителям, пройти через трясину семейных травм и наконец вернуться к собственному сердцу. Он, бесспорно, был самым великим моим учителем.
Где-то на этом пути я даже перестал думать о своем глазе и беспокоиться, улучшается его состояние или нет. Я больше не ждал, что ясное зрение вернется ко мне. Каким-то образом это перестало быть важным. Однако вскоре после описанных событий зрение начало возвращаться ко мне. Я не ожидал этого. Мне даже не было это нужно. Я научился чувствовать себя полноценно вне зависимости от своих глаз.
Сегодня мое зрение 20/20, хотя офтальмолог утверждает, что с тем количеством шрамов, которое есть на моей сетчатке, я не должен видеть вообще. Он только качает головой и рассуждает о том, что, наверное, световой сигнал каким-то образом отражается и обходит центральную фовеолярную зону сетчатки. Так же как и в большинстве историй об исцелении и трансформации, то, что казалось суровым испытанием, на деле было скрытой милостью Божией. По иронии судьбы, обшарив самые дальние уголки планеты в поисках ответов, я нашел самый главный источник исцеления внутри себя, он только и ждал, когда его откроют.
В конечном счете исцеление – результат внутренней работы. Спасибо моим учителям за то, что они вернули меня домой, к родителям и к самому себе. Я открыл для себя историю своей семьи, и это принесло мир моей душе. В знак благодарности и из чувства вновь обретенной свободы я сделал своей миссией – помогать другим открывать для себя такую же свободу.
Так получилось, что в мир психологии я вошел через слово. Будучи сначала студентом, а затем и клиницистом, меня мало занимали тесты и теории, а также модели поведения. Вместо них я вслушивался в язык. Я разработал свои техники слушания и учился слышать то, что люди говорили на самом деле – в своих жалобах, в повторявшихся историях. Я научился помогать им вычленять определенные слова, которые вели к источнику их боли. Хотя некоторые теоретики утверждают, что язык не участвует при формировании образа травматического эпизода, я самолично вновь и вновь убеждался, что язык никуда не пропадает. Он блуждает в областях бессознательного и ждет, когда его услышат.
То, что язык для меня является действенным инструментом исцеления, неудивительно. Насколько я могу вспомнить, язык всегда был моим учителем и способом организовывать и понимать мир. Еще подростком я начал писать стихи и готов был бросить все (ну или почти все), почувствовав, как рождается и требует выхода новая волна языкового самовыражения. Я знаю, что если я подчинюсь этому порыву, то на другом конце его лежит уникальная информация, которая могла бы не открыться мне другим способом. Так для меня на собственном пути было важно увидеть слова «один», «беспомощный», «раздавлен».
Во многом исцеление от психологической травмы сродни написанию стихотворения. И то и другое требует точного момента времени, точных слов и точного образа. Когда все эти элементы выстраиваются в верной последовательности, нечто очень важное приходит в движение и даже ощущается в теле. Чтобы исцелиться, движение должно быть точно размерено. Если мы слишком быстро придем к образу, то можем не зацепить его корень. Если слова, несущие нам успокоение, придут слишком быстро, мы можем оказаться не готовы воспринять их. Если слова будут неточны, мы можем их не услышать или не соотнесем себя с ними.
В ходе своей деятельности в качестве наставника, а затем и ведущего семинаров, я объединил аналитическую информацию и методы, полученные при обучении в сфере психологии наследственных семейных травм, со своими знаниями о важности роли языка. Я называю этот подход методом ключевого языка. С помощью специальных вопросов я помогаю людям добраться до главной причины, лежащей в основе их физических и эмоциональных симптомов, причины, которая удерживает их в этой трясине. Применяя данный метод, я наблюдал, как глубоко укоренившиеся паттерны депрессии, тревоги, пустоты изменялись в свете внезапного озарения.
Локомотивом в этом странствии является язык – глубоко запрятанный язык наших страхов и тревог. Очень возможно, что он жил в нас всю жизнь. Возможно, он возник еще у родителей или даже многие поколения назад, у бабушек и дедушек. Наш истинный язык хочет быть услышанным. Если мы последуем за ним и услышим его истинную историю, он сможет растворить все наши самые глубокие страхи.
На этом пути мы можем встретить членов семьи, как известных, так и малознакомых. Некоторые из них мертвы уже много лет. Некоторые могут быть даже не такими близкими родственниками, но их страдания или их жестокость могли изменить судьбу нашей семьи. Мы можем даже обнаружить один-два секрета в давно погребенных историях. Но вне зависимости от того, куда заведет нас исследование, мой опыт говорит, что мы прибудем в новое место жизни, в наших телах появится больше свободы и мы будем способны пребывать в мире с самими собой.
В книге я привожу истории людей, с которыми работал на своих семинарах, тренингах и в индивидуальных сессиях. Обстоятельства этих историй реальны, но, уважая их право на конфиденциальность, я изменил имена и некоторые узнаваемые черты. Я глубоко признателен им за возможность поделиться их тайным языком страхов, за их доверие ко мне и за то, что они позволили мне услышать то важное, что скрывалось за словами.
Часть I
Паутина семейных травм
Глава 1
Травмы: потерянные и найденные
Прошлое никогда не умирает. Оно даже не прошлое.
Уильям Фолкнер. «Реквием по монахине»
Особенность травмы, которая известна многим, – неспособность выразить словами, что же конкретно происходит с нами. Она убедительно подтверждена многими документальными доказательствами. Мы не только не находим слов, но и еще что-то случается и с нашей памятью. Во время травмирующего инцидента мыслительные процессы могут быть настолько дезорганизованы и рассредоточены, что мы можем даже не ассоциировать воспоминания с определенным событием. Фрагменты воспоминаний, разбросанные в виде образов, телесных ощущений и слов, хранятся в нашем бессознательном и, спустя время, могут быть активированы чем-то, что хотя бы отдаленно напоминает пережитое. Когда что-то пробуждает их, как будто нажали невидимую кнопку перемотки, в повседневной жизни начинают воспроизводиться какие-то проявления травмы. Бессознательно мы можем реагировать на определенных людей, события или ситуации тем или иным знакомым способом, который перекликается с прошлым.
Зигмунд Фрейд открыл этот паттерн более ста лет назад. Реконструкция травмы, или «навязчивое повторение», как назвал ее Фрейд, – это попытка бессознательного вновь проиграть то, что когда-то осталось нерешенным, чтобы «сделать все правильно». Бессознательное стремление переживать прошлые события может быть одним из механизмов, действующих в случаях, когда в семьях на протяжении нескольких поколений повторяются нерешенные травмы.
Современник Фрейда, Карл Юнг, также считал, что все, оказавшееся в бессознательном, не исчезает, но скорее проявляет себя в жизни как фатум или судьба. Все, что не является сознательным, говорил он, далее переживается как фатум. Другими словами, мы стремимся повторять бессознательные паттерны поведения до тех пор, пока не привнесем в них свет осознанности. И Юнг, и Фрейд подчеркивали: все, что нам слишком трудно переработать, само по себе не исчезает, а сохраняется в нашем бессознательном.
Фрейд и Юнг замечали, как фрагменты блокированного, подавленного или вытесненного жизненного опыта проявляют себя в словах, жестах и поведении пациентов. В последующие десятилетия терапевты искали подсказки в виде оговорок, особенностей поведения или образов сновидений, надеясь, что они прольют свет на неизъяснимые и немыслимые области жизни их пациентов.
Недавние успехи технологий построения и обработки изображений позволили исследователям раскрыть, как функции мозга и тела «дают осечку» или надламываются во время сокрушительных переживаний. Бессель ван дер Колк – голландский психиатр, известный своими исследованиями посттравматического стресса. Он говорит, что во время травмирующего эпизода речевой центр блокируется, так же как и префронтальная кора головного мозга – та часть мозга, которая отвечает за переживание настоящего момента. Он описывает такое состояние как бессловесный ужас, при котором теряются все слова, что типично, когда нейронные проводящие пути головного мозга, ответственные за память, заторможены в моменты угрозы или опасности. «Когда человек вновь переживает свой травмирующий опыт, – говорит он, – это оказывает повреждающее воздействие на лобные доли головного мозга. В результате ему трудно думать и говорить. Он уже не способен объяснить самому себе или кому-то другому, что в точности происходит» (1 (#litres_trial_promo)).
Реконструкция травмы, или «навязчивое повторение», как назвал ее Фрейд, – это попытка бессознательного вновь проиграть то, что когда-то осталось нерешенным, чтобы «сделать все правильно».
Все же это не абсолютная тишина: слова, образы и импульсы, которые распались на фрагменты после травмирующего инцидента, возрождаются и формируют тайный язык страданий, который мы несем в себе. Ничто не теряется. Куски нашего опыта были просто направлены по другим маршрутам. Появляющиеся сейчас тенденции в психотерапии начинают смотреть за пределы личной травмы одного человека и обращают внимание на травмирующие события в семье и социальной истории, чтобы увидеть картину в целом. Трагедии, различные по своему типу и интенсивности (например, отказ от ребенка, самоубийство, война или же ранняя смерть кого-то из родителей, брата или сестры, или собственного ребенка) вызывают ударные волны горя и боли, передающиеся от одного поколения к другому. Недавние открытия в области молекулярной биологии, эпигенетики и психологии развития подчеркивают важность исследования по меньшей мере трех поколений фамильной истории для того, чтобы понять механизм, лежащий в основе повторяющихся травматических паттернов и страданий.
Следующая история дает нам яркий пример. Когда я впервые увидел Джесси, он практически не спал ночами уже более года. Бессонница явно выдавала себя темными кругами под глазами, но пустой взгляд заставлял предположить, что за этим лежит нечто большее. Джесси было всего двадцать, но выглядел он на десять лет старше. Он упал на софу в моем кабинете так, словно его ноги уже не держали вес тела.
Джесси рассказал, что он был перспективным спортсменом и круглым отличником, но из-за постоянной бессонницы все больше погружался в депрессию и отчаяние. В результате он ушел из колледжа и лишился стипендии, за которую в свое время так боролся. Он отчаянно нуждался в помощи, чтобы вернуться в прежнюю жизненную колею. За последние три года он побывал у трех докторов, двух психологов и натуропата[7 - Натуропат – врач, лечащий естественными (не создаваемыми синтетически) лекарственными средствами: настоями и отварами трав, цветочной пыльцой и пр. Натуропатия, или природная медицина, – подход, альтернативный традиционной медицине, в основе которого лежит постулат о заложенных в человека с рождения возможностях самоизлечения и оздоровления. (Прим. перев.)], лежал в клинике сна. Ни один из них не дал ему ни понимания происходящего, ни помощи. Джесси, глядя в пол, сказал, что он просто на краю.
Когда я спросил, есть ли у него самого какие-либо идеи относительно того, что вызвало бессонницу, он покачал головой. Сон обычно всегда приходил к нему быстро. Но вот, отпраздновав свой девятнадцатый день рождения, он внезапно проснулся в 3.30 утра. Его колотил озноб, он дрожал и не мог согреться никакими способами. Спустя три часа Джесси, укрытый несколькими одеялами, по-прежнему не спал. Он не только испытывал холод и усталость, его охватил необъяснимый страх, которого он никогда не испытывал прежде. Он боялся, что если заснет, то случится нечто ужасное. «Если я засну, я больше никогда не проснусь». Каждый раз, когда начинал засыпать, он вздрагивал, и страх будил его. То же самое повторилось и следующими ночами. Вскоре бессонница стала его постоянным мучением. Джесси знал, что его страх – иррационален, и в то же время ничего не мог с ним поделать.
Пока он говорил, я слушал очень внимательно. В его рассказе для меня выделялась одна необычная деталь – ему было очень холодно, он «замерзал». Так он сказал, описывая первый эпизод случившегося. Я начал исследовать это вместе с Джесси и спросил его, переживал ли кто-либо из членов его семьи какой-либо травмирующий эпизод, включающий в себя холод, сон или возраст девятнадцать лет.
Джесси вспомнил, что лишь недавно мать рассказывала ему о трагической смерти старшего брата отца (то есть дяди), о котором Джесси даже раньше не знал. Дядя Колин замерз до смерти, когда ему было всего девятнадцать, проверяя линии электропередач во время снежной бури. Это случилось к северу от Йеллоунайф, что в Северо-Западных территориях Канады. Следы на снегу свидетельствовали о том, что он старался держаться до последнего. В конце концов, его нашли в снегу, лежащим лицом вниз. Он потерял сознание из-за переохлаждения. Его смерть была настолько тяжелой потерей для близких, что в семье даже перестали произносить его имя.
Теперь, три десятилетия спустя, Джесси неосознанно переживал обстоятельства смерти дяди – особенно страх уйти в бессознательное состояние. Для Колина уснуть означало смерть. Джесси ощущал приблизительно то же самое. Когда мы нашли эту связь, она стала поворотным моментом для Джесси. Как только он понял, что у бессонницы есть источник в событии, произошедшем тридцать лет назад, он наконец-то получил объяснение своей боязни уснуть. С этого момента можно было начинать, собственно, процесс исцеления. С помощью техник, которые Джесси освоил во время нашей работы с ним и которые я позже раскрою в книге, он смог отделить себя от травмирующего опыта своего дяди. Он его даже не знал, но страх бессознательно ощущал как собственный. Джесси не только освободился от тяжелого тумана бессонницы, он глубже почувствовал свою связь с семьей, как с прошлыми ее членами, так и с нынешними.
В попытках объяснить случаи, подобные истории Джесси, ученые обнаружили так называемые биологические маркеры – свидетельство того, что травматические переживания могут передаваться и передаются от одного поколения другому. Рашель Иегуда, профессор психиатрии и нейробиологии из медицинского института Маунт-Синай в Нью-Йорке (Mount Sinai School of Medicine) – один из ведущих мировых экспертов по посттравматическим стрессовым расстройствам (ПТСР), настоящий пионер в данной области. В своих многочисленных трудах Иегуда изучала нейробиологический аспект ПТСР у выживших жертв холокоста и их детей. Ее исследования кортизола (гормон стресса, помогающий организму вернуться к норме после пережитой травмы) и его влияния на мозг радикальным образом изменили подход к лечению ПТСР по всему миру. (Люди с таким заболеванием переживают чувства, ассоциированные с травмой, даже несмотря на то, что травмирующий инцидент произошел в прошлом. Симптомы болезни включают в себя депрессию, тревогу, ступор, бессонницу, ночные кошмары, устрашающие мысли. Люди с ПТСР легко пугаются и могут ощущать, что они «на краю».)
В этот раз я услышал, что мне сказали.
Великие учителя знают. По-настоящему великих учителей не заботит, веришь ли ты в их учения или нет. Они дают тебе правду, а затем оставляют наедине с самим собой, чтобы ты нашел собственную истину. Писатель Адам Гопник в своей книге «Сквозь детскую калитку»[6 - Through the Children’s Gate: A Home in New York.] говорит о разнице между гуру и учителями: «Гуру дает нам себя самого, а затем свою систему. Учитель дает нам учение, а затем себя».
Великие учителя понимают, что то, откуда мы пришли, влияет на то, куда мы идем, и что неразрешенный груз прошлого влияет на настоящее. Они знают, что родители – важны, вне зависимости от того, были они хорошими или нет. Обойти это нельзя. История семьи – наша история тоже. Нравится нам это или нет, она живет в нас.
Какими бы ни были отношения, родителей невозможно стереть или вырвать из памяти. Они есть в нас, а мы – часть их, даже если никогда не виделись с ними. Отвергая их, мы лишь дальше отходим от себя и увеличиваем страдания. Оба учителя смогли это увидеть. Я – не смог. Моя слепота была и буквальной, и фигуральной. Теперь я начал потихоньку просыпаться, понимая, что дома я оставил полную неразбериху.
Годами я довольно жестко судил о своих родителях. Я представлял себе, что я эффективнее, гораздо чувствительнее и человечнее, нежели они. Я винил их за все плохое в своей жизни. Теперь я должен был вернуться к ним и восстановить то, чего мне недоставало – восприимчивость. Я начал понимать, что моя способность принимать любовь от других была связана с тем, как я принимаю любовь от своей матери.
Я понимал, что принять ее любовь будет трудным испытанием. У меня был настолько глубокий разрыв с матерью, что, когда она обнимала меня, я воспринимал это как медвежий капкан. Мое тело автоматически деревенело, как будто формируя панцирь, сквозь который она не могла бы пробраться. Эта внутренняя рана наложила отпечаток на каждый аспект моей жизни – особенно на способность быть открытым в личных отношениях.
Мать и я могли не разговаривать месяцами. А когда говорили, я находил способ или через слова, или через язык тела, выражавший оборону, свести на нет те теплые чувства, которые она проявляла по отношению ко мне. Я держался холодно и отстраненно. Одновременно я обвинял ее в том, что она не в состоянии услышать и понять меня.
С твердым намерением восстановить порванные отношения я забронировал билеты домой в Питтсбург. Я шел по дороге и почувствовал в груди напряжение. Я отнюдь не был уверен, что наши отношения можно восстановить; внутри меня бурлили различные чувства. Я готовил себя к худшему, проигрывая в уме возможные сценарии: она меня обнимет, а я, желая расслабиться в ее руках, сделаю как раз противоположное. Я задеревенею.
В принципе это и произошло. С трудом дыша, я едва вытерпел ее объятия. Однако попросил ее, чтобы она продолжила обнимать меня. Я хотел понять изнутри сопротивление моего тела, где именно я напрягался, какие ощущения возникали, как я закрываюсь от нее. Информация для меня не была новой. Я видел, как этот паттерн проявлялся и в моих личных отношениях. Только на сей раз я не уходил от него. Мой план был – залечить рану в самом ее источнике.
Чем дольше она обнимала меня, тем больше мне казалось, что я взорвусь. Это было даже физически больно. Боль превращалась в онемение, а онемение – в боль. Затем, по прошествии многих-многих минут, наконец что-то поддалось. Грудь и живот начали дрожать мелкой дрожью. Я начал расслабляться, и в течение следующих недель напряжение начало уходить.
В одном из многих разговоров, которые происходили в то время, практически случайно она рассказала мне об одном происшествии, которое произошло, когда я был маленьким. Ее должны были госпитализировать на три недели, ей предстояла операция на желчном пузыре. Получив эту информацию, я начал сопоставлять, что происходило внутри меня. Где-то в возрасте двух лет – именно тогда нас с матерью разделили – в моем теле начало появляться какое-то смутное напряжение. Когда мама вернулась, я перестал доверять ее заботе. Перестал воспринимать ее. Я стал отталкивать ее и продолжал это делать на протяжении последующих тридцати лет.
Все, что с нами происходит, несет свой смысл, вне зависимости от того понимаем мы его или нет. Все, что случается в нашей жизни, в конце концов, ведет нас к чему-то.
Другое событие в ранние годы моей жизни, вероятно, также повлияло на страх, что жизнь может быть внезапно разрушена. Мать рассказала мне, что у нее были трудные роды, и во время них доктор использовал щипцы. В результате я родился с множественными синяками и частично сплющенным черепом, что довольно обыденно для родов с применением щипцов. Мать с сожалением поведала мне, что я выглядел так, что ей даже было трудно в первый раз взять меня на руки. Ее история нашла во мне отклик и помогла объяснить чувство, что я «раздавлен», жившее где-то глубоко внутри меня. Особенно травматические воспоминания, заложенные при моем рождении, давали себя знать, когда я «рождал» новый проект или представлял его перед аудиторией. Только одно понимание этого вернуло мир в моей душе. Также это неожиданно сблизило нас с матерью.
Налаживая отношения с ней, я начал строить заново свои взаимоотношения и с отцом. Он жил один в маленькой, захудалой квартирке – той же, в которой поселился после развода (мне тогда было тринадцать). Мой отец, в прошлом солдат морской пехоты и строительный рабочий, даже не озаботился приведением в порядок собственного жилища. Старые инструменты, болты, шурупы, гвозди, мотки проводов и изоленты валялись по всем комнатам и коридорам – так же, как и много лет назад. Когда мы стояли посреди этого моря ржавого железа и стали, я сказал ему, что соскучился по нему. Казалось, что слова растворились в пустоте. Он не знал, что с ними делать.
Я всегда жаждал близких отношений с отцом, но ни он, ни я не знали, как позволить этому случиться. Однако на сей раз мы продолжили разговор. Я сказал ему, что люблю его и что он был хорошим отцом. Я поделился с ним воспоминаниями о том, что он делал для меня, когда я был маленьким. Я чувствовал, что он вслушивается в то, что я говорил ему, хотя его действия – пожимание плеч, попытка сменить тему – вроде бы свидетельствовали об обратном. Потребовались многие недели разговоров и обмена воспоминаниями. Как-то раз за обедом он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Я никогда не думал, что ты любишь меня». У меня перехватило дыхание. Стало очевидно, какая огромная боль переполняла каждого из нас. В этот момент что-то переломилось. Открылись наши сердца. Иногда в сердце что-то должно переломиться, прежде чем оно откроется. В конце концов, мы начали проявлять свою любовь по отношению друг к другу. Теперь я видел результаты того, что я поверил словам своих духовных учителей и вернулся домой, чтобы исцелить отношения с родителями.
Впервые, сколько себя помнил, я разрешил себе принимать любовь и заботу своих родителей – и не ту, которую я когда-то от них ждал, а ту, которую они были в состоянии мне дать. Что-то во мне открылось. Не имело значения, насколько сильно они любили меня. Важным стало, как я получал то, что они могли дать. Они остались прежними, какими были всегда. Изменения произошли во мне. Я возвращался к тому чувству любви, которое должен был чувствовать тогда, в детстве, до того, как разрушилась моя связь с матерью.
Ранняя разлука с ней, вместе с другими травмами, которые я унаследовал из семейной истории (особенно тот факт, что три моих деда потеряли матерей в раннем детстве, а прабабушка лишилась отца в младенчестве, а вместе с ним и львиной доли внимания матери, которая была погружена в свое горе), и сформировали мой тайный язык страха. Такие слова, как «один», «беспомощный», «раздавлен» и все сопутствующие им чувства, наконец стали терять свою силу и больше не сбивали меня с пути. Мне подарили новую жизнь, и нынешние отношения с родителями составляли ее значительную часть.
За несколько месяцев я восстановил нежные отношения с матерью. Ее любовь, когда-то казавшаяся назойливой и раздражающей, теперь успокаивала и прибавляла сил. Мне повезло, что еще шестнадцать лет я наслаждался близкими отношениями с отцом. Страдая от старческой деменции в последние четыре года своей жизни, он преподал мне, наверное, самый значительный урок открытости и любви в моей жизни. Мы встречались там, за гранью мысли и ума, где существовала только глубочайшая любовь.
Во время путешествий я встречал много великих учителей. Оборачиваясь назад, я понимаю, что мой глаз – изможденный, проблемный, рождавший ужас глаз – заставил меня проехать полмира, вернуться к родителям, пройти через трясину семейных травм и наконец вернуться к собственному сердцу. Он, бесспорно, был самым великим моим учителем.
Где-то на этом пути я даже перестал думать о своем глазе и беспокоиться, улучшается его состояние или нет. Я больше не ждал, что ясное зрение вернется ко мне. Каким-то образом это перестало быть важным. Однако вскоре после описанных событий зрение начало возвращаться ко мне. Я не ожидал этого. Мне даже не было это нужно. Я научился чувствовать себя полноценно вне зависимости от своих глаз.
Сегодня мое зрение 20/20, хотя офтальмолог утверждает, что с тем количеством шрамов, которое есть на моей сетчатке, я не должен видеть вообще. Он только качает головой и рассуждает о том, что, наверное, световой сигнал каким-то образом отражается и обходит центральную фовеолярную зону сетчатки. Так же как и в большинстве историй об исцелении и трансформации, то, что казалось суровым испытанием, на деле было скрытой милостью Божией. По иронии судьбы, обшарив самые дальние уголки планеты в поисках ответов, я нашел самый главный источник исцеления внутри себя, он только и ждал, когда его откроют.
В конечном счете исцеление – результат внутренней работы. Спасибо моим учителям за то, что они вернули меня домой, к родителям и к самому себе. Я открыл для себя историю своей семьи, и это принесло мир моей душе. В знак благодарности и из чувства вновь обретенной свободы я сделал своей миссией – помогать другим открывать для себя такую же свободу.
Так получилось, что в мир психологии я вошел через слово. Будучи сначала студентом, а затем и клиницистом, меня мало занимали тесты и теории, а также модели поведения. Вместо них я вслушивался в язык. Я разработал свои техники слушания и учился слышать то, что люди говорили на самом деле – в своих жалобах, в повторявшихся историях. Я научился помогать им вычленять определенные слова, которые вели к источнику их боли. Хотя некоторые теоретики утверждают, что язык не участвует при формировании образа травматического эпизода, я самолично вновь и вновь убеждался, что язык никуда не пропадает. Он блуждает в областях бессознательного и ждет, когда его услышат.
То, что язык для меня является действенным инструментом исцеления, неудивительно. Насколько я могу вспомнить, язык всегда был моим учителем и способом организовывать и понимать мир. Еще подростком я начал писать стихи и готов был бросить все (ну или почти все), почувствовав, как рождается и требует выхода новая волна языкового самовыражения. Я знаю, что если я подчинюсь этому порыву, то на другом конце его лежит уникальная информация, которая могла бы не открыться мне другим способом. Так для меня на собственном пути было важно увидеть слова «один», «беспомощный», «раздавлен».
Во многом исцеление от психологической травмы сродни написанию стихотворения. И то и другое требует точного момента времени, точных слов и точного образа. Когда все эти элементы выстраиваются в верной последовательности, нечто очень важное приходит в движение и даже ощущается в теле. Чтобы исцелиться, движение должно быть точно размерено. Если мы слишком быстро придем к образу, то можем не зацепить его корень. Если слова, несущие нам успокоение, придут слишком быстро, мы можем оказаться не готовы воспринять их. Если слова будут неточны, мы можем их не услышать или не соотнесем себя с ними.
В ходе своей деятельности в качестве наставника, а затем и ведущего семинаров, я объединил аналитическую информацию и методы, полученные при обучении в сфере психологии наследственных семейных травм, со своими знаниями о важности роли языка. Я называю этот подход методом ключевого языка. С помощью специальных вопросов я помогаю людям добраться до главной причины, лежащей в основе их физических и эмоциональных симптомов, причины, которая удерживает их в этой трясине. Применяя данный метод, я наблюдал, как глубоко укоренившиеся паттерны депрессии, тревоги, пустоты изменялись в свете внезапного озарения.
Локомотивом в этом странствии является язык – глубоко запрятанный язык наших страхов и тревог. Очень возможно, что он жил в нас всю жизнь. Возможно, он возник еще у родителей или даже многие поколения назад, у бабушек и дедушек. Наш истинный язык хочет быть услышанным. Если мы последуем за ним и услышим его истинную историю, он сможет растворить все наши самые глубокие страхи.
На этом пути мы можем встретить членов семьи, как известных, так и малознакомых. Некоторые из них мертвы уже много лет. Некоторые могут быть даже не такими близкими родственниками, но их страдания или их жестокость могли изменить судьбу нашей семьи. Мы можем даже обнаружить один-два секрета в давно погребенных историях. Но вне зависимости от того, куда заведет нас исследование, мой опыт говорит, что мы прибудем в новое место жизни, в наших телах появится больше свободы и мы будем способны пребывать в мире с самими собой.
В книге я привожу истории людей, с которыми работал на своих семинарах, тренингах и в индивидуальных сессиях. Обстоятельства этих историй реальны, но, уважая их право на конфиденциальность, я изменил имена и некоторые узнаваемые черты. Я глубоко признателен им за возможность поделиться их тайным языком страхов, за их доверие ко мне и за то, что они позволили мне услышать то важное, что скрывалось за словами.
Часть I
Паутина семейных травм
Глава 1
Травмы: потерянные и найденные
Прошлое никогда не умирает. Оно даже не прошлое.
Уильям Фолкнер. «Реквием по монахине»
Особенность травмы, которая известна многим, – неспособность выразить словами, что же конкретно происходит с нами. Она убедительно подтверждена многими документальными доказательствами. Мы не только не находим слов, но и еще что-то случается и с нашей памятью. Во время травмирующего инцидента мыслительные процессы могут быть настолько дезорганизованы и рассредоточены, что мы можем даже не ассоциировать воспоминания с определенным событием. Фрагменты воспоминаний, разбросанные в виде образов, телесных ощущений и слов, хранятся в нашем бессознательном и, спустя время, могут быть активированы чем-то, что хотя бы отдаленно напоминает пережитое. Когда что-то пробуждает их, как будто нажали невидимую кнопку перемотки, в повседневной жизни начинают воспроизводиться какие-то проявления травмы. Бессознательно мы можем реагировать на определенных людей, события или ситуации тем или иным знакомым способом, который перекликается с прошлым.
Зигмунд Фрейд открыл этот паттерн более ста лет назад. Реконструкция травмы, или «навязчивое повторение», как назвал ее Фрейд, – это попытка бессознательного вновь проиграть то, что когда-то осталось нерешенным, чтобы «сделать все правильно». Бессознательное стремление переживать прошлые события может быть одним из механизмов, действующих в случаях, когда в семьях на протяжении нескольких поколений повторяются нерешенные травмы.
Современник Фрейда, Карл Юнг, также считал, что все, оказавшееся в бессознательном, не исчезает, но скорее проявляет себя в жизни как фатум или судьба. Все, что не является сознательным, говорил он, далее переживается как фатум. Другими словами, мы стремимся повторять бессознательные паттерны поведения до тех пор, пока не привнесем в них свет осознанности. И Юнг, и Фрейд подчеркивали: все, что нам слишком трудно переработать, само по себе не исчезает, а сохраняется в нашем бессознательном.
Фрейд и Юнг замечали, как фрагменты блокированного, подавленного или вытесненного жизненного опыта проявляют себя в словах, жестах и поведении пациентов. В последующие десятилетия терапевты искали подсказки в виде оговорок, особенностей поведения или образов сновидений, надеясь, что они прольют свет на неизъяснимые и немыслимые области жизни их пациентов.
Недавние успехи технологий построения и обработки изображений позволили исследователям раскрыть, как функции мозга и тела «дают осечку» или надламываются во время сокрушительных переживаний. Бессель ван дер Колк – голландский психиатр, известный своими исследованиями посттравматического стресса. Он говорит, что во время травмирующего эпизода речевой центр блокируется, так же как и префронтальная кора головного мозга – та часть мозга, которая отвечает за переживание настоящего момента. Он описывает такое состояние как бессловесный ужас, при котором теряются все слова, что типично, когда нейронные проводящие пути головного мозга, ответственные за память, заторможены в моменты угрозы или опасности. «Когда человек вновь переживает свой травмирующий опыт, – говорит он, – это оказывает повреждающее воздействие на лобные доли головного мозга. В результате ему трудно думать и говорить. Он уже не способен объяснить самому себе или кому-то другому, что в точности происходит» (1 (#litres_trial_promo)).
Реконструкция травмы, или «навязчивое повторение», как назвал ее Фрейд, – это попытка бессознательного вновь проиграть то, что когда-то осталось нерешенным, чтобы «сделать все правильно».
Все же это не абсолютная тишина: слова, образы и импульсы, которые распались на фрагменты после травмирующего инцидента, возрождаются и формируют тайный язык страданий, который мы несем в себе. Ничто не теряется. Куски нашего опыта были просто направлены по другим маршрутам. Появляющиеся сейчас тенденции в психотерапии начинают смотреть за пределы личной травмы одного человека и обращают внимание на травмирующие события в семье и социальной истории, чтобы увидеть картину в целом. Трагедии, различные по своему типу и интенсивности (например, отказ от ребенка, самоубийство, война или же ранняя смерть кого-то из родителей, брата или сестры, или собственного ребенка) вызывают ударные волны горя и боли, передающиеся от одного поколения к другому. Недавние открытия в области молекулярной биологии, эпигенетики и психологии развития подчеркивают важность исследования по меньшей мере трех поколений фамильной истории для того, чтобы понять механизм, лежащий в основе повторяющихся травматических паттернов и страданий.
Следующая история дает нам яркий пример. Когда я впервые увидел Джесси, он практически не спал ночами уже более года. Бессонница явно выдавала себя темными кругами под глазами, но пустой взгляд заставлял предположить, что за этим лежит нечто большее. Джесси было всего двадцать, но выглядел он на десять лет старше. Он упал на софу в моем кабинете так, словно его ноги уже не держали вес тела.
Джесси рассказал, что он был перспективным спортсменом и круглым отличником, но из-за постоянной бессонницы все больше погружался в депрессию и отчаяние. В результате он ушел из колледжа и лишился стипендии, за которую в свое время так боролся. Он отчаянно нуждался в помощи, чтобы вернуться в прежнюю жизненную колею. За последние три года он побывал у трех докторов, двух психологов и натуропата[7 - Натуропат – врач, лечащий естественными (не создаваемыми синтетически) лекарственными средствами: настоями и отварами трав, цветочной пыльцой и пр. Натуропатия, или природная медицина, – подход, альтернативный традиционной медицине, в основе которого лежит постулат о заложенных в человека с рождения возможностях самоизлечения и оздоровления. (Прим. перев.)], лежал в клинике сна. Ни один из них не дал ему ни понимания происходящего, ни помощи. Джесси, глядя в пол, сказал, что он просто на краю.
Когда я спросил, есть ли у него самого какие-либо идеи относительно того, что вызвало бессонницу, он покачал головой. Сон обычно всегда приходил к нему быстро. Но вот, отпраздновав свой девятнадцатый день рождения, он внезапно проснулся в 3.30 утра. Его колотил озноб, он дрожал и не мог согреться никакими способами. Спустя три часа Джесси, укрытый несколькими одеялами, по-прежнему не спал. Он не только испытывал холод и усталость, его охватил необъяснимый страх, которого он никогда не испытывал прежде. Он боялся, что если заснет, то случится нечто ужасное. «Если я засну, я больше никогда не проснусь». Каждый раз, когда начинал засыпать, он вздрагивал, и страх будил его. То же самое повторилось и следующими ночами. Вскоре бессонница стала его постоянным мучением. Джесси знал, что его страх – иррационален, и в то же время ничего не мог с ним поделать.
Пока он говорил, я слушал очень внимательно. В его рассказе для меня выделялась одна необычная деталь – ему было очень холодно, он «замерзал». Так он сказал, описывая первый эпизод случившегося. Я начал исследовать это вместе с Джесси и спросил его, переживал ли кто-либо из членов его семьи какой-либо травмирующий эпизод, включающий в себя холод, сон или возраст девятнадцать лет.
Джесси вспомнил, что лишь недавно мать рассказывала ему о трагической смерти старшего брата отца (то есть дяди), о котором Джесси даже раньше не знал. Дядя Колин замерз до смерти, когда ему было всего девятнадцать, проверяя линии электропередач во время снежной бури. Это случилось к северу от Йеллоунайф, что в Северо-Западных территориях Канады. Следы на снегу свидетельствовали о том, что он старался держаться до последнего. В конце концов, его нашли в снегу, лежащим лицом вниз. Он потерял сознание из-за переохлаждения. Его смерть была настолько тяжелой потерей для близких, что в семье даже перестали произносить его имя.
Теперь, три десятилетия спустя, Джесси неосознанно переживал обстоятельства смерти дяди – особенно страх уйти в бессознательное состояние. Для Колина уснуть означало смерть. Джесси ощущал приблизительно то же самое. Когда мы нашли эту связь, она стала поворотным моментом для Джесси. Как только он понял, что у бессонницы есть источник в событии, произошедшем тридцать лет назад, он наконец-то получил объяснение своей боязни уснуть. С этого момента можно было начинать, собственно, процесс исцеления. С помощью техник, которые Джесси освоил во время нашей работы с ним и которые я позже раскрою в книге, он смог отделить себя от травмирующего опыта своего дяди. Он его даже не знал, но страх бессознательно ощущал как собственный. Джесси не только освободился от тяжелого тумана бессонницы, он глубже почувствовал свою связь с семьей, как с прошлыми ее членами, так и с нынешними.
В попытках объяснить случаи, подобные истории Джесси, ученые обнаружили так называемые биологические маркеры – свидетельство того, что травматические переживания могут передаваться и передаются от одного поколения другому. Рашель Иегуда, профессор психиатрии и нейробиологии из медицинского института Маунт-Синай в Нью-Йорке (Mount Sinai School of Medicine) – один из ведущих мировых экспертов по посттравматическим стрессовым расстройствам (ПТСР), настоящий пионер в данной области. В своих многочисленных трудах Иегуда изучала нейробиологический аспект ПТСР у выживших жертв холокоста и их детей. Ее исследования кортизола (гормон стресса, помогающий организму вернуться к норме после пережитой травмы) и его влияния на мозг радикальным образом изменили подход к лечению ПТСР по всему миру. (Люди с таким заболеванием переживают чувства, ассоциированные с травмой, даже несмотря на то, что травмирующий инцидент произошел в прошлом. Симптомы болезни включают в себя депрессию, тревогу, ступор, бессонницу, ночные кошмары, устрашающие мысли. Люди с ПТСР легко пугаются и могут ощущать, что они «на краю».)