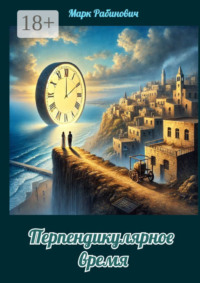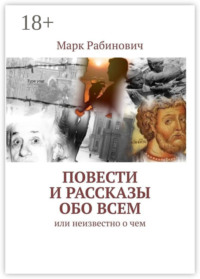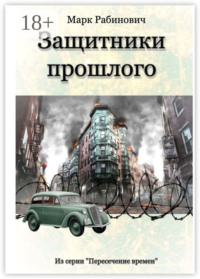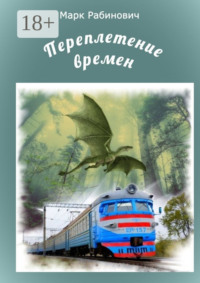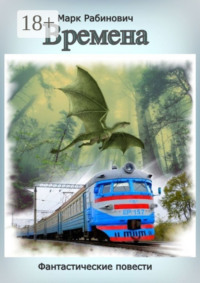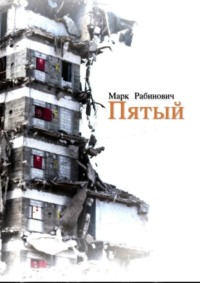Квантовая неопределенность. Сборник рассказов
– Простите, мистер…? – спросил Даффи. Я назвал свое имя и он продолжил:
– Надо полагать, вы изучали русский в нашем университете?
При этом он мотнул головой в неопределенном направлении, вероятно туда, где находился местный университет.
– Не думаю – произнес я, сам удивляясь исторгаемым мной изящным оборотам – Ведь это мой родной язык.
– Да ну? – недоверчиво сказал Фергус – Что-то я не слышу у вас не только русского, но даже и английского акцента.
Фраза по поводу английского акцента прозвучала довольно странно, ведь мы, как мне казалось, разговаривали по-английски.
– Да что ты пристал! – вмешался Даффи – Дай человеку спокойно выпить свое пиво.
Фергус улыбнулся и молча отпил из своей кружки.
– Позвольте узнать, друзья… – спросил я, приободренный доброжелательностью посетителей – Что это за город, в котором обитают такие славные джентльмены. Признаться честно, я не совсем представляю, где оказался?
Из меня буквально так и перли изысканные обороты речи, но посетителей восхитило не это.
– Ого! – произнес Даффи – Такого я еще не слышал! Вот до чего может довести изучение иностранных языков. Как хорошо, что я ни одним не владею!
– Заткнись, трепло – усмехнулся Фергус – Вы в Старом Коптильщике, сэр, самом лучшем городе из всех городов.
– Воистину так – согласился Даффи, легонько ударив дном кружки об стойку в знак согласия.
– Спасибо – только и мог пробормотать я.
Это название мне ничего не говорило, но уточнить я постеснялся. Расправившись наконец с пивом, я распрощался с веселыми спорщиками и барменом и вышел на улицу. На Роуз-стрит по-прежнему было малолюдно, что указывало на середину рабочего дня. Я задумался. Итак, открыв дверь в смежную комнату на третьем этаже ленинградского дома, я оказался на улице какого-то англоговорящего города. Более того, я, ни с того ни с сего, начал не только понимать английский, включая идиомы, но и заговорил на нем как на родном. По всем правилам мне следовало заподозрить в этом высокотемпературный бред, незаметно впрыснутое мне соседом снизу наркотическое вещество или еще какую-нибудь мерзость. Но придумывать простые объяснения мне почему-то не хотелось. И, самое главное, я был спокоен, подозрительно спокоен, к тому же мне было интересно, безумно интересно, хотя следовало ощущать страх. Тут, прервав мои размышления, снова хлопнула дверь «Сурового» за спиной. Вышедший оттуда человек не был ни барменом, ни одним из спорщиков и я заподозрил, что он сосал пиво в темном углу заведения, пока мы развлекались беседой. Своей одеждой он больше всего напоминал доктора Ватсона из телевизионного сериала. Наверное этому способствовала старомодная накидка и надвинутая на глаза шляпа-котелок, похожая на головной убор агента охранки из старого фильма про революцию. Опирался он (ну разумеется!) на длинный зонтик с изящной ручкой в виде головы сокола.
– Простите меня, сэр – начал персонаж в котелке – Это разумеется не мое дело, но не мог бы я узнать, куда вы сейчас направляетесь?
Наглый вопрос был задан подчеркнуто вежливым тоном. Очень хотелось ответить ему: «Вы совершенно правы, это действительно не ваше дело», но я ограничился неопределенным:
– Не знаю…
– В таком случае я бы посоветовал не затягивать вашу прогулку. Честь имею!
С этими словами он приподнял двумя пальцами котелок и я увидел его глаза. На мгновение мне показалось, что я снова вижу Николая Петровича: глаза у незнакомца тоже были «никакие». У меня отнялся язык не то от растерянности, не то от страха, а когда я немного пришел в себя, он уже орудовал своим зонтиком чуть ли не другом конце Роуз-стрит.
К совету следовало прислушаться, но это показалось мне обидным. К тому же я так и не выяснил, что же это за город. Выпытывать это у прохожих я побоялся, опасаясь той же реакции, что и у Даффи, поэтому просто поплелся вдоль по Роуз-стрит, в надежде почерпнуть какую-либо информацию. Красноватая плитка елочкой на Роуз-стрит сменилась серо-бурыми кирпичиками и я поднял глаза на уличный указатель. Оказывается здесь уже знакомую мне Роуз-стрит пересекала некая Касл-стрит. Это название, означающее «Замковая улица», меня заинтересовало и я наугад повернул направо. Касл-стрит меня не обманула: в ее створе немного смутно, в легкой дымке, виднелся черный замок, стоящий, как и полагается порядочному замку, на горе. Как здорово, а ведь мне так давно хотелось побывать в настоящем замке. Поэтому, недолго думая, я направился вниз по полого спускающейся улице. Чем ближе я подходил, тем сильнее крепло во мне чувство, что я уже знаю где нахожусь, но чувство это оставалось лишь чувством и превратить его в слова или, по крайней мере, в мысли, мне пока не
удавалось. Так я дошел до конца Касл-стрит, застроенной довольно унылыми трехэтажными домами, облицованными все тем же серо-бурым камнем. Не торопясь и стараясь не попасть под машины, почему-то идущие в противоположную сторону, я перешел трамвайные пути на довольно широкой и, для разнообразия, заасфальтированной улице и вышел к низине перед замковой горой. Внизу лежал изрезанный асфальтированными дорожками парк, по которым катались велосипедисты, проезжали дети на самокатах, с визгом двигались детские коляски, прогуливались парочки и почему-то стоял каменный солдат с каменным же медведем в обнимку. Мраморный постамент прямо надо мной попирал некий вдохновенный персонах, нежно обнимающий оборванного парнишку. А за всем этим: за парком, за памятником, за заросшей кленами и березами лощиной, возвышался замок, навалившись на черные базальтовые скалы. И тут, наконец, я понял где нахожусь.
Нет, я никогда здесь не был и даже не видел эти места на глянцевых иллюстрациях. Однако порой мне встречались строчки черным шрифтом на белой бумаге, такие, что будут поживописнее иных самых лучших фотографий. Вам случалось, закрыв глаза, увидеть только что прочитанное? Мне случалось и теперь я видел наяву (наяву ли?) то, что некогда прочел и увидел в своем воображении. Да, да, вон там, именно по этой отвесной скале спускался, раскачиваясь на веревке, нагловатый и бесшабашный виконт де Сент-Ив. А примерно там где я сейчас стою, проходила быстрой походкой прекрасная Флора Гилкрист. Все верно, замок отсюда неплохо просматривается и с крепостной стены несложно было для хороших глаз рассмотреть яркое платье здесь, на Принсес-стрит. Левее же замка начинается Королевская Миля, самая знаменитая и самая центральная улица города, и где-то в самой ее середине, вероятно в каком-нибудь Банковском переулке, располагалось некогда, а может быть располагается и до сих пор, Британское Льнопрядильное Кредитное общество. То самое, в двери которого вошел Давид Бэльфур, чтобы выйти богатым человеком и тут же неподалеку, в одном из переулков, спускающихся в лощину, встретить Катриону Друммонд в сопровождении закутанных в пледы мрачных горцев. В общем, Роберт Льюис Стивенсон неплохо отметился в своем родном городе, в Эдинбурге.
Почему-то меня уже не удивляло то, что, открыв дверь у Николай Петровича, я попал в Шотландию, за тысячу миль (мне почему-то лучше думалось в милях, чем в километрах или верстах) от нашей коммуналки. А еще мне было безумно интересно. Но тут я вспомнил, что дверь в комнаты Николая Петровича осталась незапертой, а дверь из прихожей во вторую комнату так и совсем открыта куда-то в южное ответвление Роуз-стрит. От этой мысли мне стало не по себе и, бросив последний взгляд на Эдинбургский замок, я поспешил обратно по Касл-стрит. Повернуть на Роуз-стрит и зайти в знакомый переулок с разноцветными мусорными бачками заняло у меня не более трех-четырех минут и все эти минуты я задавал себе вопросы, на которые у меня не было ответов. А что если дверь в нашу коммуналку заперта? Или, того хуже, она ведет на обычную эдинбургскую лестницу? Что мне тогда останется делать? Сдаться властям? Искать помощи? Наверное будет очень забавно заявиться в советское консульство в Шотландии, если таковое имеется, и рассказать им мою безумную историю. Боюсь только, что это будет совсем не забавно, а весьма и весьма тревожно. Интересно, меня сразу оденут в одежду с завязками сзади или вначале напоят чаем? Кажется местный дурдом
называется Бедлам, или это в Лондоне? Такие или примерно такие мысли обуревали меня, пока я судорожно давил ногами брусчатку эдинбургских улиц. А вот наконец и темный переулок, тихое южное колено более оживленной Роуз-стрит. С замиранием сердца ухватился я за ручку двери и на мгновение замер, не решаясь ее открыть. Простой нажимной язычок с нашей стороны, здесь она представляла собой массивную бронзовую загогулину с завитушками под старину. Наконец я рискнул и под моим нажатием ручка туго пошла вниз, но дышать в полную сила я все еще не решался. Дверь открылась без скрипа и, с чувством невероятного облегчения, я увидел тусклые обои светло-горохового цвета в веселенький блекло-голубой цветочек в прихожей Николая Петровича. Не размышляя более, я шагнул через порог с чувством подобном тому, которое наверное ощущал Бугенвиль, ступая на девственный песок очередного необитаемого острова. И, хоть ступил я всего лишь на линолеумный пол, счастлив был не меньше французского мореплавателя. Теперь, по всем канонам жанра дверь за мной должна была захлопнуться сама со зловещим грохотом. Но в реальности (хотя я не был уверен, что комнаты Николая Петровича подходят под этот термин), мне пришлось закрыть ее самому, да, к тому же, уже стоило поторопиться: с Роуз-стрит сильно дуло. Когда я захлопывал дверь, мне на мгновение показалось, что в конце проулка стоит эдинбургский «никакой» и приветливо машет мне на прощание своим старомодным котелком. Дверь, хлопнув язычком замка, послушно закрылась и я решил, что мне почудилось.
Вот тут-то на меня и навалились все те чувства, которые мне, по идее, следовало ощущать в Эдинбурге. Было ли мне страшно? Несомненно! А что, по вашему должен ощущать человек, перенесшийся в единый миг черт знает куда и вернувшийся обратно? Первое, что должно было прийти мне в голову, так это то что я свихнулся, лишился разума, съехал с катушек и у меня поехала крыша. Признаюсь, именно это мне голову и пришло, причем все синонимы одновременно. Теперь, для восстановления душевного здоровья совершенно необходимо было объяснить мои шотландские приключения каким-нибудь высокотемпературным бредом или внезапным помутнением сознания. И, разумеется, надо было немедленно убедить самого себя, а, в дальнейшем, возможно и санитаров, что ничего такого со мной не происходило и мне просто-напросто стало дурно от спертого воздуха в комнате, в которую я по дурости-то и залез. В общем, мысли мне в голову лезли самые что ни на есть благоразумные, вот только голова отказывалась их принимать. Каким-то образом я был абсолютно уверен в том, что на самом деле побывал в Эдинбурге. Впрочем, проверить это было несложно.
Я с опаской открыл дверь в коридор, убедился, что она действительно ведет в коридор, и поспешил к себе. Там я снова уставился в текст пресловутой брошюры-методички. Затем я, не долго думая и обращаясь к промежутку между кроватью и гардеробом, произнес вслух следующее:
A postgraduate student must be proficient in both prepared and unprepared monologue and dialogue speech, as well as in the ability to communicate in a foreign language in conditions of natural (both domestic and educational) communication.
…И обалдело посмотрел в зеркало гардероба чтобы убедиться в том, что там по-прежнему отражается моя физиономия. Поверьте мне, не было ничего удивительного в том, что я засомневался. Дело в том, что суконный текст оригинала прозвучал в моем
переводе настолько органично, что я грешным делом заподозрил методичку в плагиате с английского. Зато мое красноречие в эдинбургском бистро уже не представлялось мне бредом. Правда, никаких идей о причине такого лингвистического прорыва у меня и в помине не было. Более того, я тщательно старался об этом не думать, чтобы ненароком не свихнуться.
Теперь пришло время привести мысли в порядок. Итак! Как выяснилось, дверь во внутреннюю комнату нашего соседа по коммуналке имеет милую привычку открываться в благоразумно безлюдный проулок в центре шотландской столицы. Это порождало множество вопросов, ответов на которые не было и, возможно, быть не могло. Тем не менее, от вопросов никуда было не деться, они копошились в мозгах так, что чесалось под черепом. Вопросов было много и разных. Например, не могут ли через таинственную дверь проникать в Ленинград подлые шпионы? Или контрабандисты? Но, признаюсь честно, несмотря на весь мой патриотизм, проблема шпионов беспокоила меня не слишком сильно. Ну что они могут такого интересного узнать? Причину появления корюшки сразу после ледохода или сакральную тайну бесконечного разбавления пива в пивных ларьках? Контрабандистам, как и ворам тоже нечем было поживиться в нашей квартире. Нет, не это меня интересовало, а совершенно иное. Вот скажите на милость куда, во имя всего святого, девалась вторая комната Николая Петровича? Существует ли она вообще? А ведь у Соловейчиков несомненно было две полноценные комнаты, я же собственноручно таскал чемоданы из второй. Помнится мне, было в той комнате высокое окно в полстены, батарея парового отопления под ним и какая-то мебель. Да нет же, не могло мне показаться, да и не поместилось бы семейство Соловейчиков в одной только прихожей! А еще, мне очень и очень хотелось бы знать, каким таким фантастическим образом я приобрел несвойственные мне лингвистические способности? И, скажите на милость, как человек перенесенный черт-те куда умудрился не свихнуться, не испугался, не заистерил, а, напротив, испытал нечто сродни эйфории разумного масштаба.
И тут меня кольнула острая, как лезвие рапиры, мысль. А что если, подумал я, та дверь больше никогда не откроется? Что, если даже каким-то чудом я снова попаду во вторую комнату Николая Петровича, то увижу лишь поблекшие на солнце обои, окно на улицу, соседний дом и услышу не тишину Роуз-стрит, а перестук трамваев по окном? Я посмотрел на часы. Мои приключения в Шотландии заняли не слишком много времени. Оказывается, для того чтобы выпить кружку пива в «Суровом» под веселый треп, взглянуть издали на эдинбургский замок и вернуться, мне понадобилось менее часа и сейчас мои часы показывали одиннадцать с минутами. Колебался я не более двух секунд. Английский я теперь знаю, дорогу до парка помню, а там не может не быть дорожки до самого замка. Несколько минут до парка и еще полчаса от силы на подъем к замку, да столько же на обратную дорогу. Ничего сверхъестественного. Двери, открывающиеся за тысячи миль, я почему-то не считал сверхъестественными.
Второй поход в неизвестное дался мне много тяжелее первого. Признаюсь, на сердце было немного неспокойно, да к тому же где-то глубоко шевелилась совесть и тихо ныла непонятно о чем. Поэтому к Николаю Петровичу я шел по нашему коридору на цыпочках и даже его первую дверь открывал с великой осторожностью, так что же говорить о второй? Ее я отворял двумя пальцами, опасаясь не только сквозняков с Роуз-стрит, но и еще чего-то, непонятного мне самому. Наверное больше всего я опасался увидеть обои второй
комнаты и услышать, как пробегает трамвай за окном. Но, когда дверь послушно открылась, я с облегчением увидел дорожное покрытие и стену дома по другую сторону переулка. Облегчение мое, впрочем, длилось недолго: увиденное мною вовсе не было коленом Роуз-стрит. Действительно, на этот раз переулок был много уже даже южного ответвления Роуз-стрит, которое и так было настолько нешироким, что пешеходный тротуар приходилось обозначать на нем желтой полосой. Тут же речь не шла не только о тротуарах, но и вообще о проезжей части. Действительно, то что открылось мне за дверью было скорее проулком, на котором с трудом могли разминуться двое пешеходов. В общем, это было совершенно другое и, на первый взгляд, не слишком привлекательное место. И все же я осторожно, предельно осторожно, ступил через порог.
В отличие от виденного мной прежде, здесь не было брусчатки, а стоял я на бетонной дорожке с грубыми водосточными канавками по обеим ее сторонам. По канавкам весело журчал спокойный поток довольно чистой воды. Нет, это явно была не Шотландия: все здесь было иным и даже запах был тоже не таким как в Эдинбурге. Разумеется, столица современной европейской страны должна была пахнуть бензиновым перегаром и так оно, скорее всего и было. Однако во время моего быстрого набега на Эдинбург мне почему-то все время чудился запах торфяного дыма, как будто со времен Стивенсона и Вальтера Скотта шотландцы не переставали топить камины. А может быть именно так и было?
А вот в новом месте пахло совершенно иначе. Запахов здесь было великое множество и все они смешивались в непередаваемую обонятельную симфонию, поразившую мое обоняние своей богатой палитрой подобно тому, как поражают меломана богатством обертонов первые аккорды органной музыки. Все же два запаха превалировали. Один из них я легко узнал: это был резкий аромат жареной салаки. Причем речь шла о настоящей океанской салаке, а не о нашей ленинградской корюшке, которая в сыром виде пахнет свежим огурцом, а в жареном не пахнет ничем. И пусть ихтиологи говорят что хотят, но только истинно океанская салака пахнет так резко, подпрыгивая на сковороде. Второй из главных запахов был странным, не знакомым моему обонянию.
Как направо, так и налево от двери Николая Петровича тянулась все та же бетонированная дорожка. Нависшие с обеих ее сторон дома, хоть и не слишком высокие, полностью скрывали перспективу и создавали полумрак. Нет, понял я, то не полумрак, а темнота, ночная темнота, подсвеченная многочисленными подслеповатыми лампочками, торчащими из стен. Только тут я догадался взглянуть на наручные часы. В мой первый выход через таинственную дверь в Эдинбурге был день и я не обратил внимания на разницу во времени. Сейчас же она была настолько разительной, что не заметить ее было трудно. Видимо, законов физики никто не отменял. А может быть и отменил, подумал я, вспомнив открывающиеся неизвестно куда двери, но все же не все. Итак, я попал в иной и, надо полагать, довольно далекий часовой пояс. Прежде всего следовало осмотреться, но особенно осматривать было нечего. Вдоль обеих сторон бетонированного прохода (язык не поворачивался назвать его переулком) стояла сплошная стена плотно прильнувших друг к другу домов. Были они трехэтажными, но этим их сходство и ограничивалось. Казалось, какой-то безумный архитектор расставил вдоль улицы бетонные коробки, не заботясь даже о том, чтобы выровнять их края. Поэтому дома вдоль прохода стояли вкривь и вкось, то выпирая на десяток-другой сантиметров, то утопая на столько же. Из-за этого прямая, в принципе, дорожка казалась изломанной. Чтобы
дополнить впечатление хаоса, из стен торчали какие-то трубы: от тонких водопроводных, до толстенных и гофрированных воздуховодов. Не отставали от труб и непонятного назначения счетчики, навесы, хаотично подвешенные балконы и эркеры, коробки непонятного назначения механизмов. И, при всем при том, это жуткое нагромождение всего на свете непонятным образом выглядело довольно гармонично. Наверное строительный хаос достиг здесь некоего предела, за которым архитектурная какофония породило новое качество и новую, прежде неведомую, красоту некрасивых форм. Почувствовав себя истинным диалектиком, я направился в левую сторону на запах жаренной рыбы.
Через пару десятков шагов проход стал немного шире и бетон сменился асфальтом от края до края уже без всяких канавок. Тут я с удивлением заметил такие же как и на Роуз-стрит полосы, отделяющие тротуар от проезжей части, правда не желтого, а красного цвета. Провел их, надо полагать, какой-то шутник, потому что по «проезжей части» не смог бы проехать и «Запорожец», а «тротуар» был плотно заставлен цветочными горшками у одних домов и столь же плотно захламлен строительным мусором у других. Впрочем нет, кое-где на «тротуаре» под углом к «проезжей части» (наверное, чтобы не перекрывать ее) были припаркованы мотороллеры. Как они только проезжают здесь, подумал я и тут же, услышав гудок за спиной, отскочил на свободный пятачок «тротуара». Мотоциклист пронесся довольно быстро, тщательно огибая выпирающие на «проезжую часть» доски, стулья, сохнущее белье на стойках. Больше всего это напоминало упражнение по слалому и мотоциклист выполнял его изящно и профессионально.
Запах рыбы усилился и я увидел его источник. На «тротуаре» стоял колченогий мангал, а на нем благоухали дары моря в виде тощих сардинок. Над всем этим великолепием довлел синий тряпичный навес с двумя идущими сверху вниз надписями: 炸魚 и 周金龙. Странно, подумал я, «жареная рыба» это понятно, но «неделя» и «золотой дракон»? При чем тут дракон? Именно это я и подумал, и только в следующий момент до меня дошло, что я читаю китайские иероглифы. Первая моя мысль была на изумление продуктивной: «Ну, ни хрена себе!» Наверное я неосторожно и слишком громко высказал ее вслух по-русски, потому что какой-то старик выглянул из «жареной рыбы» и спросил:
– Добрый вечер, господин. Будете ужинать?
– Великодушно прошу меня простить – вылетело из меня – Я совершенно напрасно вас побеспокоил.
– Ничего страшного. Прошу меня извинить – скороговоркой пробормотал он и исчез в недрах «рыбы».
– И вам того-же – обалдело произнес я, на этот раз, для разнообразия, по-русски.
Все это короткое действо походило на сцену из плохонькой китайской пьесы в еще худшем русском переводе, ведь думать-то я продолжал по русски. Хорошо еще, что он не пожелал мне процветания и в этом и в верхнем мире. А ведь мог же, наверное. Тут я сообразил, что имел счастье лицезреть и «неделю» и «золотого дракона». Значит хозяина «рыбы» зовут Чжоу Цзиньлун.
Я двинулся дальше по переулку, который становился все шире и шире. В нем стало оживленнее и начали попадаться продуктовые лавки, магазины товаров для дома с выставленными на обочину метлами, швабрами, ведрами, кухонными раковинами, сливными бачками и разной всячиной. Попадались и маленькие ресторанчики, а то и
тележки с незатейливой едой. Среди последних преобладали переносные мангалы со все той-же салакой, поэтому резкий рыбный запах то утихал, то усиливался, но окончательно не исчезал, забивая все остальные запахи. Наконец мой переулок выплеснулся на оживленную улицу. Да, нет, это была не совсем улица, а скоре базар с проезжей частью посередине. Но машин было мало, зато от тарахтения мотороллеров и мопедов и дребезжания велосипедных звонков раскалывалась голова. Они неслись в обе стороны десятками, как стаи рычащих и жаждущих добычи хищников. И вывески, вывески, вывески. Казалось, здесь продают все, от свадебных костюмов до жирных угрей (и то и другое можно было потрогать). При этом ожидаемого шума и крика зазывал не было слышно, лишь ровный гул разговоров многотысячной толпы. Вот он, результат всеобщей грамотности, подумал я, увертываясь от очередного мотороллера. Но где же я нахожусь? Судя по надписям, я в Китае и это же подтверждают как мои наручные часы так и темнота на улице. Но в Китае вроде бы все должны ходить в одинаковой одежде темно-синего цвета, а здесь вокруг меня гудела многотысячная разноцветная толпа. В Гонконге я, что ли? Но тогда почему почти не видно надписей на английском языке?
Перейдя, точнее – перебежав – улицу перед несколькими угрожающе рычащими мотоциклами, я оказался в обжорном ряду и углубился в него. О, чем здесь только не потчевали. Из огромных чанов доставали белые, наверное рисовые, клецки-шарики, клали в сито, сливая кипяток, обливали блестящим соусом и перекладывали в миски с полупрозрачным бульоном, приправленным зеленью. Рядом, на чем-то похожем на капустные листья, лежали маленькие креветки и очищенные мидии с язычком какого-то неестественно-яркого соуса. Тут-же на крошечных шампурах жарились неизвестные науке продукты во фритюре, а за ними лаконичные меню обещали суп из акульих плавников и лягушек в карамели. Тут-то я вспомнил, что ограничил свой завтрак стаканом желудевого кофе, да и после этого мне не досталось ни крошки ни в Ленинграде, ни в Эдинбурге. Неудивительно, что мой рот наполнился слюной и я готов был положить в него даже лягушку. Но на мои три рубля тут не удалось бы получить и жареного таракана, которые, я в этом не сомневался, продавались за углом. Продавцы смотрели на меня понимающими взглядами и снисходительно улыбались.
Быстрым шагом я пересек соблазнительные ряды и уткнулся в храм, точнее – в храмовый двор. Думаю, ставь режиссеры Ленфильма фильм про китайское средневековье, им стоило бы не придумывать декорации, а лишь установить свои камеры в дальнем углу этого двора и снимать. Тут было все, что только подсказывает нам воображение при слове «Китай»: драконы, бронза, мрамор и изящные черепичные крыши. Ветер раздувал дымок по храмовому двору и я сразу распознал второй из главных запахов – это был запах благовоний. Он шел из двух огромных бронзовых чанов-треножников с гнутыми драконьими лапами вместо ножек. Из равномерного слоя пепла внутри курильниц торчали то ли использованные, то ли готовые к употреблению курительные палочки, от которых и стелился благовонный дым. Над курительницами возвышались изящные беседки, защищающие их от дождя, а в стенки каждого из чанов вцепились по два забавных дракончика. Сам храм, довольно приземистое одноэтажное здание, поражал своей крышей. Она была выполнена, разумеется, в «императорских» цветах: золотом, ярко-красном и лазоревом. Изящную черепицу украшали бесчисленные фигуры драконов с длиннющими, завитыми в кольца хвостами, богов и уже совершенно