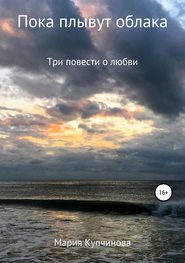По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зов. Сборник рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Баба Агафья, оказавшаяся невысокой, пухленькой старушкой, перевязанной крест-накрест вязаным шерстяным платком, с порога напоила Магду горячим молоком, накормила шанежками и кивнула на Федора, который лежал, накрывшись с головой стеганым одеялом, на притулившемся у печки топчане, не думая подниматься:
– Как деда схоронили, третью неделю лежит. Ночью во двор выйдет, сядет на крыльцо, измерзнется весь, и опять под одеяло. Может, хоть ты, дочка…
Агафья прервалась, не договорив фразу до конца, с сомнением разглядывая городскую девчонку:
– О-хо-хонюшки… нарядилась-то… капроны свои скинь, возьми мои чулки шерстяные, тебе как раз будут. В сенях, если выйти надумаешь, чуни валяные стоят, надевай смело. Не знаю… по-городскому, диван тебе застелить, или на полати залезешь? Поди, на печке-то никогда не спала?
– Как скажете, бабушка.
Магда с трудом сдерживала слезы: зачем она ехала в этот чужой дом с печкой, занимающей полкомнаты, она такую прежде лишь на картинках и видела, рукомойником, в который надо наливать ледяную воду из ведра, стоящего рядом на скамейке, смешными самодельными половиками из лоскутов на крашеном деревянном полу… Зачем, если Федька даже не шелохнулся под своим одеялом.
– Как скажу…
Пожилая женщина потянула гостью за руку в соседнюю комнату, отделенную занавеской, понизила голос:
– Извелся Федор совсем. Залпом горюшко заглотнул, а оно – как спирт неразбавленный, с непривычки и сжечь нутро может. Я, что могла, все перепробовала, да без толку…
Вздохнув, заглянула Магде в глаза:
– Ваше-то дело молодое, может, сложится…
Утром Агафья собралась кормить нескольких оставшихся кур да петуха-горлопана, требовавшего от своей куриной семьи вечного подобострастия, но, приоткрыв дверь, увидела на крыльце внука. Накрытый старым дедовским кожухом, он спал, положив голову девочке на колени, а она, выставив из-под кожуха ладошку, кормила хлебными крошками синицу, которую приручил дед. И такая радость была на лице пигалицы, что Агафья, не выдержав, тихонько прикрыла дверь, опустилась на лавку у рукомойника и первый раз после похорон мужа беззвучно заплакала…
Та ночь была очень короткой. А последовавший за ней день очень длинным. Таким длинным, что никак не вмещался целиком в память Магды. То вспоминалась черная, ссохшаяся, вся в трещинах старая перевернутая лодка, на которой сидели они с Федором. То шепелявый ветер. Он бубнил что-то назидательное, сдувая с пожелтевших листьев березы дождевые капли. То звучал в ушах скрипучий голос птицы с серовато-белым хохолком на голове и синими пятнами на крыльях. Она подлетала очень близко, косилась на них любопытным черным глазом, а Федор грозил кулаком:
– Только попробуй, сойка-сплетница, кому-нибудь рассказать о нас.
И красные озябшие руки. Они с Федькой грели их о кружки с обжигающе-горячим молоком, смотрели друг на друга и молчали.
Все это даже спустя много лет распадалось на отдельные лоскутки счастья и никак не хотело сплетаться в один общий узор.
Вечером приехал отец Магды. Измученный беспокойством, фиолетово-бордовый от подскочившего давления он наорал на Агафью: «Вы, старая женщина, как вы могли!», тряхнул Федора, взяв за отвороты старенькой телогрейки: «Надеюсь, ты был мужчиной и не обидел девочку», не слушая возражений, затолкал Магду в кабину попутки и увез в город.
Машину подбрасывало на колдобинах, отец, не переставая, ругал дорогу, дочку, ее подруг, глупую бабку с не менее глупым внуком, а Магда то плакала, то светилась улыбкой. Обижалась на отца, который бесцеремонно увез ее, словно котенка, схватив за шкирку, и вспоминала, как шептал Федор ночью:
– Дождись меня из армии… Слышишь? Дождись…
3
– О чем задумался, Федорыч? – старший Горюхин отхлебнул из бутылки и довольно улыбнулся. – Припоминаешь высокое?
Ветер сорвал очередную порцию листьев с березы над скамьей, бросил под ноги. В лицо полетели мелкие капли влаги: то ли дождь, то ли слезы. Деревьям, словно девчонкам, грустно расставаться с ярким нарядом, когда впереди – лишь неизбежность долгой холодной зимы.
– Да выше Ванькиных подвигов разве придумаешь, – Сивцову вдруг стало тоскливо: зря он ввязался в этот треп. Сидел бы сейчас дома, в тепле, слушал, как ворчит Магда…
***
Билетов на поезд не было. Как назло, именно сейчас, когда они так необходимы. Три года добирался Федор домой после срочной службы. Жизнь казалась бесконечной, сила – немереной, вот и испытывал себя. То с рыбаками на баркасе в море ходил, то с геологами по тайге скитался…
А по ночам встреченные люди, тайга с буреломами, море, вскипающее яростью, даже рыба пойманная и непойманная оживали и требовали перенести их на бумагу. Особенно нахальничала одна рыбешка, с метр длиной. Она подмигивала, скалилась в улыбке, выставляя золотой зуб, и хриплым тенорком требовала: «Напиши обо мне, любое желание исполню». Ни в сказки, ни в золотых рыбок Федор не верил, но оторваться от обшарпанного стола в рабочей общаге, на котором все выше громоздилась стопка исписанных листов бумаги уже не мог. Днем писал, ночью сторожил детский садик и опять записывал то, что беспрестанно крутилось в голове, не давая покоя…
Мамино письмо про Ваньку Горюхина, собравшегося жениться на какой-то Ленке из второго подъезда Федор даже не дочитал до конца. Только на следующий день понял: это его Ленка почему-то решила выскочить замуж, не дождавшись, пока он закончит писать свой первый роман. Его, Федора, Ленка… Метнулся на вокзал. Билетов на поезд нет, да и поезда через день ходят, но разве Федора этим остановишь…
Товарняк шёл в нужном направлении. Фёдор сунулся в теплушку, протянул двум хмельным дядькам, сопровождающим груз, бутылку водки:
– Отцы, помогите.
– Так, что же… для хорошего человека – это мы завсегда, – краснолицый дедок в старом ватнике доброжелательно глянул на бутылку, пожевал ус, – ты только, парниша, на крыше вагона сховайся, пока наш главный с проверкой придет. А как он все досмотрит, тут мы тебя и кликнем.
Сивцов поежился: воспоминания об этом «подвиге» до сих вызывали озноб. Поезд едва успел тронуться, как дядьки в вагоне добавили к ранее выпитому еще и его бутылку и заснули мертвым сном. А он сначала беззаботно распластался на нагретой солнцем крыше, ближе к вечеру подтянул молнию на куртке до самого верха, и лишь когда ледяной дождь, словно заправский барабанщик, стал отбивать сложный ритм по крыше вагона, а заодно и по его, Федора, сжавшемуся в комок телу, начал изо всех сил колотить по крышке люка, напоминая о себе.
Ванька, вон, якобы от богинь Огня спасался… Подумаешь, торговала Ленка лампадками в церковном киоске. Кто в те годы не торговал чем мог.
А попробовал бы он двух храпящих бездельников разбудить, да с поезда не свалиться, когда руки закоченели, а душа хоть еще и не совсем оторвалась от тела, но уже витает где-то на уровне пролетающих мимо редких фонарей и посматривает сверху: стоит ли возвращаться…
Закончился «подвиг» двусторонним воспалением легких и хроническим бронхитом. Но на свадьбу Федор все-таки попал. Ногой расшвырял газетки со свадебным угощением, рывком вытянул Ленку с места для молодоженов, получил от нее множество оплеух (даже глаз расцарапала, кричала: «Ненавижу: за пять лет – ни одного письма!») и увел с собой.
Потом Ленка с мамой по очереди дежурили у его постели в больнице, мамино сердце не выдержало, а Ленка… Ленке пришлось одной хоронить маму: Федор метался в бреду на больничной койке.
***
– Не томи, Федорыч, твоя очередь, – Ванька выжидательно заглядывал в глаза. – рвани что-нибудь этакое «о подвигах, о славе», порадуй душу.
Сивцов усмехнулся: совсем как дети малые. Хотя… почему бы и не придумать.
Что же, пускай… На палубе парусного фрегата стоит высокий худой мужчина. На голове треуголка, на плечах длиннополый белый кафтан, под ним темно-зеленый камзол, украшенный золотым шитьем в виде дубовых листьев. Вместо потертых джинсов – штаны до колен, белые чулки, башмаки с медными пряжками. Три пуговицы на обшлагах кафтана (сочинять так сочинять!) свидетельствуют о высоком чине человека, напряженно глядящего в подзорную трубу.
Мыс, похожий на указательный палец судьбы, выступает далеко в море. Белая башня маяка, зелень травы, а вдоль высоких красноватых скал, под прикрытием береговых батарей вьются на мачтах вымпелы флота неприятеля. Их много. Так много, что кажется в просторной, широкой бухте кроме прибрежной полосы не осталось и пяди свободного места.
– Федор Федорович, ветер с берега дует, – почтительно склоняется командир фрегата.
– Вижу. Эскадре – продолжить движение, отрезать неприятеля от берега.
– Под пушки батарей идем…
Адмирал хмурится: не смеет офицер обсуждать приказы, но тот и сам понимает:
– Зато ветер наш будет.
– Пять часов сражения пролетели как миг. Чад горящих кораблей затянул небо, впрочем, может, просто близилась ночь, – глуховатый голос Сивцова слегка подрагивает, он и сам увлекся рассказом. – Возле корабельных орудий, словно черти в аду, плясали раздетые до пояса, черные от сажи, артиллеристы. От них зависел исход битвы: возглавляемая адмиралом эскадра, окружив противника, в упор расстреливала чужой флот. То справа, то слева раздавался глухой треск сталкивающихся судов: неприятель искал бреши для прорыва. Вспышки, сопровождающие выстрелы, освещали вздымающиеся носы кораблей, похожие на поднятые в отчаянии руки: море не спеша заглатывало свою добычу. Взметнулся в небо сноп искр, на палубу адмиральского фрегата рухнула горящая мачта тонущего корабля. Невысокий бравый матрос, играя мускулами, подтянул штаны, – не удержался от ехидства Сивцов, – и бросился тушить огонь. «Горюхин, снаряд давай, черт тебя побери!» – последнее, что он услышал в жизни: обломок другой мачты пробил ему голову.
– Не до смерти, Федорыч, не до смерти, – младший Горюхин нервно пробегает пальцами по обтянутому курткой животу.
– А как же подвиги? Ладно, герой, живи, – благосклонно кивает Федор Федорович, продолжая рассказ.
– Сквозь мглу прорвался луч заходящего солнца, вместе с ним на сражающихся обрушилась тишина. Она ударила по ушам сильнее свиста снарядов, треска рухнувших мачт, криков, проклятий людей. Тут-то и раздалась команда адмирала: «Горюхин, за мной! На абордаж!».
– А потом зазвучал полонез, – радостно добавил Горюхин старший.