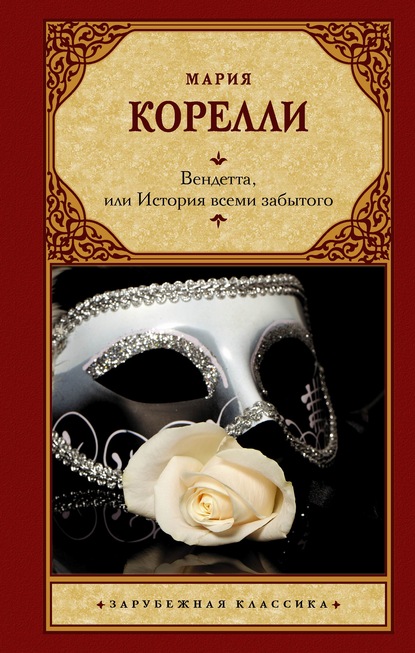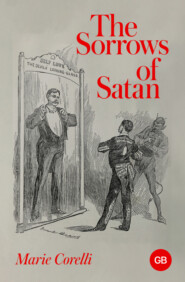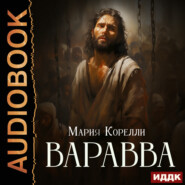По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вендетта, или История всеми забытого
Автор
Жанр
Год написания книги
1886
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот видите! Так он здесь и лежит со вчерашнего вечера, когда она умерла, – прошептала заговорившая с королем женщина. – А руки он сцепил, как железный капкан – даже пальцы разжать не можем!
Король шагнул вперед и тронул несчастного влюбленного за плечо. Его голос, исполненный удивительной мягкости, прозвучал в ушах окружавших прекрасной музыкой:
– Сын мой!
Ответа не последовало. Женщины, тронутые простыми и проникновенными словами короля, принялись тихонько всхлипывать, и даже мужчины тайком вытерли глаза. Король снова заговорил:
– Сын мой! Я – твой король. Разве ты меня не поприветствуешь?
Юноша поднял голову, покоившуюся на груди возлюбленной, и пустыми глазами уставился на обратившуюся к нему августейшую особу. Его осунувшееся лицо, спутанные волосы и безумный взгляд придавали ему вид человека, который долго блуждал в лабиринте жутких видений, откуда не было иного выхода, кроме самоубийства.
– Дай мне руку, сын мой! – продолжил король властным голосом.
Очень медленно, с огромной неохотой, словно его принуждала к действию некая магнетическая сила, которой он не мог противостоять, Джованни отнял руку от мертвого тела, которое столь упрямо обнимал, и протянул ее королю, как тот велел. Умберто крепко сжал ее в своей, удержал там на мгновение, посмотрел бедняге прямо в глаза и произнес поразительно спокойно и просто:
– В любви нет смерти, мой друг!
Их взгляды встретились, застывшие губы молодого человека разжались и, вырвав ладонь из королевской десницы, он разразился бурными рыданиями. Умберто тотчас обнял его своей монаршей рукой и с помощью одного из придворных поднял с кровати, после чего вывел из комнаты – юноша не сопротивлялся, сделавшись послушным, словно ребенок, хоть и продолжал судорожно всхлипывать. Рыдания сохранили ему рассудок и, вероятно, даже жизнь. Негромкие восторженные аплодисменты сопровождали доброго короля, когда тот шел сквозь небольшую толпу людей, ставших свидетелями происходившего. Поблагодарив их легким изящным поклоном, он вышел из лачуги и сделал знак гробовщикам, по-прежнему ждавшим снаружи, приступать к их скорбной работе. Затем двинулся дальше, сопровождаемый восторженными благословениями и восхвалениями, которых мог бы удостоиться завоеватель, вернувшийся с трофеями после сотни выигранных сражений.
Я смотрел вслед его удалявшейся фигуре, пока она не скрылась из виду, и чувствовал, что само присутствие героя, человека, который был «королем от головы до ног»[2 - Цитата из пьесы У. Шекспира «Король Лир». – Примеч. ред.], придало мне сил. Да, я роялист. Под властью такого государя мало кто из здравомыслящих людей придерживался бы иных взглядов. Однако, будучи убежденным роялистом, я приложил бы все усилия, дабы способствовать низвержению и смерти тирана, будь он хоть трижды коронован! Не многие монархи могут сравниться с Умберто Итальянским – даже сейчас я вспоминаю о нем с теплотой в сердце, и после всех перенесенных мною страданий его образ предстает как высшее воплощение Благодатной Силы, окруженное светлым сиянием бескорыстной доброты – сиянием, которым Италия освещает свой дивный лик, вновь улыбаясь той прежней своей улыбкой, как в счастливейшие дни величайшего могущества, когда сыны ее вознеслись высоко лишь потому, что были искренни. Изъян современного общественного устройства состоит в том, что мы не вкладываем душу в то, что делаем. Мы редко любим работу как таковую и выполняем ее, лишь чтобы что-то за нее получить. В этом и кроется секрет всех неудач. Друзья едва ли станут радеть друг о друге, если не смогут также порадеть и о своих интересах. Верно, существуют исключения из этого правила, но таких людей называют глупцами.
Как только король скрылся из виду, я также покинул место вышеупомянутого происшествия. У меня появилось желание зайти в трактир, где мне стало плохо, и после несколько затянувшихся поисков я нашел его. Дверь была открыта. Я увидел толстого хозяина, Пьетро, перетиравшего стаканы, словно он все время только этим и занимался. В углу стояла та же скамья, на которую меня положили и на которой, как все полагали, я умер. Я вошел, хозяин поднял взгляд и поздоровался со мной. Я ответил на его приветствие и заказал кофе и булочки. Беззаботно усевшись за столик, развернул газету, пока он суетился, обслуживая меня. Пьетро смахнул со стола пыль и, вытирая чашку с блюдцем, отрывисто спросил:
– Долго плавали, приятель? Хороший улов?
Я на мгновение смутился, не зная, что ответить, но потом, собравшись с духом, ответил утвердительно.
– А что у вас? – веселым тоном поинтересовался я. – Как холера?
Хозяин печально покачал головой.
– Святой Иосиф! И не говорите! Люди мрут как мухи. Вот только вчера – клянусь Бахусом! – кто бы мог подумать? – Он глубоко вздохнул, наливая мне горячий кофе, и еще печальнее покачал головой.
– Так что же случилось вчера? – спросил я, хотя прекрасно знал, что он мне ответит. – Я в Неаполе совсем чужой и не знаю здешних новостей.
Вспотевший Пьетро уперся толстым большим пальцем в мраморную столешницу и принялся задумчиво выводить на ней узоры.
– Вы никогда не слышали о богатом графе Романи? – поинтересовался он.
Я отрицательно покачал головой и уткнулся взглядом в чашку с кофе.
– Ах, ну да! – продолжил он, тихонько вздохнув. – Это уже неважно, нет больше никакого графа Романи. Все кончено – раз и навсегда! Но он был богат – говорят, как сам король, – а вот видите, как святые его низвергли! Брат Чиприано из ордена бенедиктинцев принес его сюда вчера утром – его поразила холера, – и через пять часов он умер. – Тут хозяин таверны прихлопнул комара. – Да! Умер, как вот этот кровосос! Да-да, он лежал на деревянной скамье напротив вас. Похоронили его еще до заката. Прямо какой-то кошмарный сон.
Я сделал вид, что всецело поглощен разрезанием булочки и намазыванием на нее масла.
– Не вижу в этом ничего особенного, – равнодушно произнес я. – То, что он был богат, ничего не значит: богатые и бедные умирают одинаково.
– Правда, святая правда, – согласился Пьетро, снова вздохнув, – ведь все его богатство не спасло благочестивого Чиприано.
Я вздрогнул, но быстро взял себя в руки.
– О чем это вы? – спросил я как можно равнодушнее. – Вы говорите о каком-то святом?
– Ну, пусть его и не причислили к их лику, но он этого заслуживает, – ответил хозяин. – Я говорю о святом отце-бенедиктинце, который принес сюда умирающего графа Романи. Ах, а ведь он и не знал, что Господь вскоре приберет и его самого!
Я почувствовал, как у меня защемило сердце.
– Он умер?! – воскликнул я.
– Умер, как мученик! – ответил Пьетро. – По-моему, он заразился холерой от графа, поскольку ухаживал за ним до самого конца. Да, он окропил его тело святой водой и в гроб вместе с ним положил свое распятие. Потом отправился на виллу Романи, взяв с собой ценные вещи графа – часы, кольцо и портсигар. Он не мог успокоиться, пока самолично не отдал их молодой графине, сообщив ей, как скончался ее муж.
«Бедная моя Нина!» – подумал я.
– И сильно она опечалилась? – поинтересовался я с некоторой долей любопытства.
– Откуда я знаю? – произнес хозяин, пожав пухлыми плечами. – Святой отец ничего не сказал, разве что она упала в обморок. И что с того? Женщины от всего падают в обморок – от мыши до трупа. Как я сказал, достопочтенный Чиприано проследил за похоронами графа и едва оттуда вернулся, как занемог от болезни. А сегодня утром он умер в монастыре – да упокоится душа его с миром! Я всего лишь час как об этом узнал. Да! Святой был человек! Он обещал мне теплый уголок в раю, и я знаю, что он сдержит свое слово так же твердо, как сам святой Петр.
Я отодвинул нетронутую еду. Она вызывала у меня отвращение. Я готов был оплакивать этого благородного смиренного человека, пожертвовавшего своей жизнью ради других. Одним героем стало меньше в этом мире трусливых и малодушных людишек! Я сидел молча, погруженный в печальные мысли. Хозяин бросил на меня любопытный взгляд.
– Вам не нравится кофе? – наконец спросил он. – Или аппетита нет?
Я заставил себя улыбнуться.
– Нет, ваши слова способны отбить даже самый сильный аппетит у любого, родившегося на этих берегах. И вправду, Неаполь развлекает приезжих лишь печалью. Здесь больше нечего услышать, кроме разговоров о мертвых и умирающих?
Лицо Пьетро приняло почти виноватый вид.
– Да, и то верно! – послушно согласился он. – Мало о чем еще говорят. Но что поделать, друг мой? Это все холера, и на все воля Божья.
Когда он произносил эти последние слова, я заметил человека, неспешно шедшего мимо двери трактира. Это был Гвидо Феррари, мой друг! Я бросился было к выходу, чтобы заговорить с ним, но что-то в его взгляде и манере держаться охладило мой пыл. Он шел очень медленно, покуривая сигару, на губах у него играла улыбка, а в петлице пиджака красовалась недавно сорванная роза сорта «Слава Франции», похожая на те, что во множестве росли на верхней террасе моей виллы. Я проводил его пристальным взглядом, с чувством некоторого потрясения. Он выглядел совершенно счастливым и умиротворенным, даже более счастливым, чем я когда-либо его видел. А ведь… А ведь я, как ему было известно, я, его лучший друг, умер лишь вчера! И с таким свежим горем он улыбался, как человек, идущий на праздник, да еще с алой розой в петлице, что уж никак не могло быть признаком траура! На мгновение меня пронзила острая боль, но в следующую секунду я посмеялся над своей чувствительностью. В конце концов, что значили эта улыбка и роза? Человек не всегда в ответе за выражение своего лица, а что до цветка, он мог сорвать его по пути, не думая. Или, что еще более вероятно, его могла вручить ему моя дочь Стелла – в этом случае он вставил розу в петлицу, чтобы порадовать ее. На его лице не было печати горя? Верно! Но посудите сами: ведь я умер только вчера! Времени оказалось явно недостаточно, чтобы соблюсти все внешние приличия, которые сопровождают траур, однако никоим образом не свидетельствуют об искренности чувств. Довольный своими логичными рассуждениями, я не стал пытаться следовать за Гвидо, позволив ему идти своей дорогой, не ведая о моем существовании. Подожду до вечера, решил я, вот тогда все и разъяснится.
Я повернулся к хозяину.
– Сколько я вам должен? – спросил я.
– Сколько сами решите, друг мой, – ответил он. – Я никогда с рыбаков много не брал, но времена нынче тяжелые, и мне, возможно, окажется нечего предложить вам на завтрак. Многие годы я проявлял снисходительность к людям вашего ремесла, и достопочтенный Чиприано, покинувший нас, говаривал, что святой Петр мне это зачтет. Мадонна и вправду особенно благосклонна к тем, кто снисходителен к рыбакам, поскольку все святые апостолы были из них, а я бы не хотел лишиться ее покровительства. И все же…
Я рассмеялся и бросил ему франк. Он сразу же спрятал его в карман, и глаза его сверкнули.
– Хотя вы и на полфранка не заказали, – признался он с несвойственной неаполитанцам честностью, – но святые вам за это воздадут, будьте покойны!
– Уверен! – весело ответил я. – Прощайте же, друг мой! Желаю процветания вашему заведению, и да благоволит вам Пресвятая Богоматерь!
На это пожелание, являвшееся, как я знал, общепринятым среди сицилийских моряков, добрый Пьетро ответил с дружеской сердечностью, пожелав мне удачи в следующем плавании. Затем он снова принялся перетирать стаканы, а я провел остаток дня в прогулках по самым пустынным улицам города. Я с нетерпением ждал, пока небо окрасится багрянцем заката, который, словно огромное победное знамя, станет сигналом моего благополучного возвращения к любви и счастью.
Глава 8
И вот, наконец, наступил благословенный и долгожданный вечер. Подул легкий ветерок, остужая от дневного зноя раскаленный воздух и принося с собой ароматы тысяч цветов. Небеса засияли царственной пышностью закатных красок, и неподвижный, словно зеркало, залив отражал все это великолепие оттенков с ослепительным блеском, еще более усиливая и без того волшебное очарование вечерней зари. Кровь моя бурлила от страстного желания, однако я сдерживал себя. Я ждал, когда солнце погрузится в застывшее зеркало вод, когда ослепительное сияние, сопровождающее его закат, померкнет и превратится в размытый небесный отсвет, напоминающий тонкие покровы, ниспадающие с еле видимых силуэтов парящих ангелов, когда желтый край полной луны неспешно поднимется из-за края горизонта. Затем, больше не сдерживая нетерпение, зашагал по знакомой тропинке, поднимавшейся к вилле Романи. Сердце выпрыгивало у меня из груди, руки и ноги дрожали от волнения, шаг сделался сбивчивым и торопливым, и этот путь показался мне длинным как никогда.