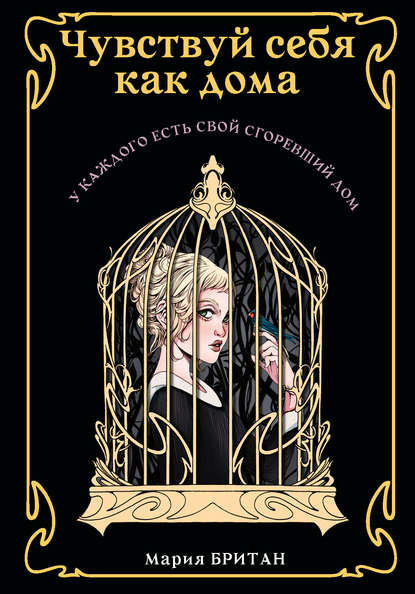По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чувствуй себя как дома
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не помню, когда это началось. Но раньше, чем я научился говорить.
Матушка водит меня к врачу. Тот показывает картинки, а я замечаю не то, что следует обычному мальчику. Да, чудовище. Да, с тремя желтыми глазами на каждой из голов. Если бы оно жило в нашем доме, его морды выглядывали бы из окон чердака. Вот смеху-то было бы! Я бы кормил его блинчиками.
Матушке не нравится мое воображение. Она его удалит, точно. Поэтому мне страшно к ней приближаться, когда она держит нож. По ночам матушка жалуется бате, что со мной что-то не так.
Если честно, я боюсь. Вдруг она выгонит нас с бракованным паровозом из дому? Интересно, есть ли пункты обмена детей?
Однажды за завтраком матушка цапает меня за запястье и просит, чтобы я никому не говорил о друзьях-домах. Наверное, боится, что я буду выглядеть странно.
Я обижаюсь на матушку, и дом обижается вместе со мной.
Со стола падает стакан. Матушка уверена, что пихнула его локтем.
Но я в курсе: это дом грустит. Дом хочет дружить с ней. А она – нет.
Его сердце в подобные моменты тикает чаще обычного. Предки удивляются, почему часы спешат, и возвращают стрелки обратно.
Дому больно. Он плачет – протекает крыша. Всегда – хоть чини, хоть не чини.
Ты до сих пор здесь, Вячеслав? Неужто не нашел часы?
Тогда читай вслух. Поднимись и постарайся не задохнуться. Хрусти лопатками, не опускай глаза. Вот так. И подбородок – выше.
Не бойся смерти, пока она не скажет: «Здравствуй. Как поживаешь?»
* * *
Мне шесть. Матушка бросила попытки сделать меня нормальным. Не обращает внимания, как я жмусь к стене и что-то бормочу. Ну и ладно. Зато со мной дружат протекающая крыша и половицы.
Я спрашиваю у дома:
– Как жизнь?
А он отвечает:
– Отлично.
Спрашиваю:
– Почему я?
А он отвечает:
– Ты славный малый.
Спрашиваю:
– Я случайно не псих?
А он отвечает:
– У тебя просто протекает крыша.
Не бойся безумия, пока оно не скажет: «Здравствуй. Как поживаешь?»
Мне семь.
Со мной по-прежнему не дружат сверстники. Я хожу в школу. Мертвую школу. По крайней мере, она молчит. Я пробовал с ней заговорить, а она ни в какую. Или упрямая, или и правда сдохла.
Может, она невзлюбила учеников. Может, виновато сердце-часы – здесь оно тикает тише, чем дома.
Может, школа больна.
Мне так и не удалили фантазию.
И почему матушка до сих пор не обменяла меня на кого-то получше? На что она надеется?
Впрочем, паровоз я тоже не обменял. И ни на что не надеюсь.
Мне восемь.
Я провожу все свободное время у себя в комнате. Прижимаюсь к обоям так, что краснеет ухо – иногда дом шепчет чересчур неразборчиво.
Одноклассники обзывают меня маменькиным сынком. А все потому, что я отправляюсь домой в шесть, ведь уже темнеет. Я боюсь. Ночью голоса домов особенно различимы.
Одноклассники обзывают меня кирпичом. А все потому, что я часто прислушиваюсь к стенам, сливаюсь с ними. «И лицо приплюснутое», – заявляет Пашка, главный придурок поселка, – долговязый, с белыми-белыми седыми волосами, хотя ему всего восемь, и с длинными, девчачьими ресницами. Странно, что над ним никто не подшучивает.
Одноклассники обзывают меня сумасшедшим. А все потому, что моя крыша протекает.
Мы с домом – близнецы. Только я не давлюсь штукатуркой.
В первый день осени банда во главе с Пашкой перелезает через забор и кидает камни в мое окно.
Маменькин сынок.
Кирпич.
Сумасшедший.
Осколки летят в разные стороны. Сердце дома тикает быстрее и быстрее и, должно быть, спешит на часов сорок. Больно, больно. Как же ему больно.
Мальчишки гогочут. Они попали в цель и проучили негодяя.
Я не успеваю увернуться – камень попадает мне в лоб – и растекаюсь лужицей по полу.
Мальчишки грозятся меня закопать, скормить крысам, законсервировать вместо огурцов. Но вскоре крики обрываются. Я с трудом доползаю до подоконника и пялюсь в окно: у Пашки из носа льется кровь – пачкает рубашку, капает на траву. Рядом – разбитый горшок с землей и пока не проросшими матушкиными цветами.
– Спасибо, – мямлю я, гладя стену.