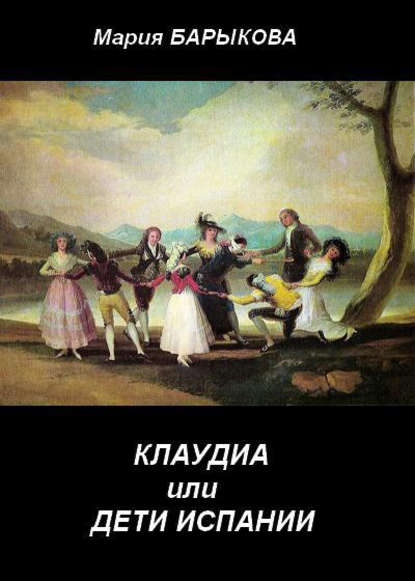По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Клаудиа, или Дети Испании. Книга первая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но, папа, во-первых, откуда ты знаешь, что это будет мальчик, а во-вторых, как же мы прокормим его, если Гедета только и говорит, что скоро мы все и так положим зубы на полку?
– Замолчи, негодница! – вспыхнула дуэнья. – Вот что делают ваши книги, дон Рамирес! Девчонке и десяти еще нет, а разговаривает с вами, как и я не посмею!
Дон Рамирес закрыл лицо руками.
– К сожалению, Клаудита права, донья Гедета. На небесах не заботятся о том, как примут их дары на земле. Но, черт побери, я сделаю все, что в моих силах! – И крупная слеза выкатилась из-под смуглых пальцев, охвативших высокий лоб.
Ах, как девочке стало жаль этого сильного доброго человека! Она прижалась к нему всем телом, словно стараясь спасти, оградить от всех несчастий и забот, спрятать от этой страшной тетки Гильотины.
– Папа, папочка, милый, не расстраивайся, у нас все будет хорошо, вот родится брат, и я расскажу ему все-все о нашем роде, – пыталась она успокоить отца, невольно поглядывая на висевший над очагом древний герб де Гризальва, являвший собой две скрещенные шпаги в лазоревом поле с двумя золотыми звездами.
– Да, моя малышка, все будет хорошо, у тебя будет прекрасная светлая жизнь, и у твоего брата…
– И у тебя, и у тебя, папочка…
И они, обнявшись, закружились по комнате, а потом бросились целовать и обнимать Марию, которая тоже светилась тихим счастьем, глядя на радость мужа и дочери.
С того дня жизнь маленькой Клаудильи сильно изменилась.
Отец, словно безумный, дневал и ночевал на зимних пастбищах, пытаясь выжать все, что возможно из остатков отары, мать вообще перестала вставать, подолгу молилась и лишь порой, гладя Клаудилью по вьющимся волосам, грустно прижимала ее к вновь расцветшей груди. В результате Гедете пришлось заниматься и виноградником в Мурнете, и продажей сыров, присылаемых хозяином, и изготовлением одеял из овечьей шерсти. А вся работа по дому легла на узкие плечики Клаудильи.
Но все эти подметания полов, стирка, готовка, глаженье, чистка до блеска медной посуды и прочие хозяйственные работы, занимая руки девочки, оставляли широкий простор ее воображению, чувствам и мыслям. С чувствами дело обстояло проще: к матери, болезненной и всеми помыслами сосредоточенной только на супруге и Боге, Клаудиа давно привыкла относиться лишь с уважением и почти материнской заботой. Отца, которого девочка боготворила, последнее время почти не бывало дома, но тем сильнее выплескивались навстречу ему чувства девочки в редкие мгновения их свиданий. И только с одной старой доньей Гедетой были у девочки вполне ровные сердечные отношения, какие бывают в семье между детьми и родителями. Дуэнья ее бабушки и вправду была настоящим кладезем всевозможных знаний и нерастраченных чувств. В юности она не захотела выйти замуж за нелюбимого и состарилась в девичестве, зато голос ее до сих пор сохранил серебристую звонкость, напоминавшую благовест в пасхальную ночь. Она знала, какое и когда дать питье больному, как определить, кого в первый раз принесет овца, какая погода будет на Рождество, если в день Святого Иоанна пойти послушать воду на берегу Риу де Мезы, и многое другое, казавшееся маленькой Клаудите воистину волшебством. И девочка даже хотела стать не красавицей, как мать, а именно такой же строгой, доброй, всезнающей Гедетой. Таковы были чувства Клаудильи, еще ни разу никем не смущенные, если не считать все чаще бросаемых на нее странных взглядов мужчин да таинственной гильотины. И девочка порой окуналась в них, как в тихие нежные воды крошечного прудика в Мурнете, и находила в этом отдохновение и покой.
Гораздо сложнее было с мыслями, роившимися в ее головке со слегка вьющимися русыми волосами., высоко посаженной на смуглую шейку. Вопросы, на которые не находилось ответов ни в книгах, ни в разговорах с отцом, ни даже в проповедях отца Челестино, гудели в ней, словно рой растревоженных пчел, причиняя почти ощутимую боль. Куда исчезает на ночь солнце? Почему альгвасил[19 - Альгвасил – судебный пристав.] дон Руис, которого все ненавидят, богат, а ее отец, всеми любимый, беден? Почему родители никогда не пускают ее ночевать с ними? Почему гороховый суп в гостях всегда вкуснее, чем дома, и как виноград превращается в вино? И еще тысячи подобных вопросов мучили девочку, замкнутую в пяти комнатах дома в старом переулке Ахо.
* * *
Зима медленно поворачивала на тепло. Овечья шерсть перестала быть шелковистой и длинной, сваливаясь в неопрятные космы. Лозы стали менее хрупкими, а если прижать ухо к округлившемуся, как каравай, материнскому животу, то теперь можно было услышать какую-то неясную возню, которая смущала и пугала Клаудилью, тем более что лицо Марии по мере того, как рос ее живот, становилось все худее и белее, напоминая застывшую маску. Затем, как всегда, ранней весной, начались сложности с едой и деньгами, но Клаудита пока не замечала, что в этом году вино разбавляется водой в два раза больше обычного, а кофе подается почти совсем несладкий. Но, воспринимая физические трудности с легкостью ребенка, она, однако, слышала глухие намеки отца о том, что эта проклятая революция за горами погубит и их, и видела, как украдкой вытирает черной накидкой слезы никогда неунывающая Гедета. Более того, девочка едва не потеряла дар речи, как-то утром увидев, что мать, одетая в перешитое дуэньей еще девичье платье, тяжелой походкой направилась в церковь святого Иеронима, где не бывала уже много месяцев, и отходила туда всю новену[20 - Новена – девятидневная парадная служба у католиков.], несмотря на то, что обратно Гедета приводила ее почти без чувств. Однако еды в доме не прибавлялось.
Но что было Клаудилье до какой-то еды, когда весна безоглядно вступала в свои права по берегам ручьев и речек, взрываясь в щебете птиц и лиловых корзиночках крокусов! Девочка возвращалась домой с расцарапанными руками, в запачканной юбке, с распустившимися от лазанья по лесу волосами, в который уже раз теряя платок. Впрочем, Гедета, поглощенная все возрастающими заботами, уже не ругала ее, а лишь бросала на питомицу долгий, полный печали взгляд.
Утро того дня сияло так ярко, что скрадывало и убогость обстановки, и скудость завтрака. Отец быстро съел остатки вчерашнего жаркого, однако почему-то не спешил подняться и уйти, как обычно. Клаудиа поставила перед ним вторую чашку уже остывшего пустого кофе и осторожно заглянула в черные прекрасные глаза под насупленными, седеющими бровями.
– Сегодня я никуда не пойду, Клаудита. Хочешь, мы весь этот день проведем втроем, вместе с мамой?
Клаудиа еще с вечера собиралась убежать далеко за Мурнету, где росли вкусные съедобные луковицы саранки, но голос отца был так тих, а его предложение так непривычно, что она только кивнула.
У матери в комнате, как всегда, радостный свет едва пробивался сквозь тяжелые шторы, отчего на всем лежал оттенок старины и грусти. Она, громко дыша, лежала на высоких подушках и тревожно повернула к ним свою уже с утра красиво причесанную голову.
– Ты, Пепе? Что случилось?
– Ничего. Просто я так мало бываю с тобой в последнее время, а тебе сейчас, как никогда, нужна поддержка… – Дон Рамирес опустился в ногах кровати и посадил Клаудиту на колено. – Мы пришли развлечь тебя. Хочешь, поиграем втроем в биску или тутэ[21 - Биска и тутэ – карточные игры.]?
Но Мария вспыхнула и нервно сжала руку мужа.
– Ты обманываешь меня, Пепе! Что случилось? Ты не продал тех овец?
– Все продано, моя дорогая, и продано вполне удачно. Завтра я закуплю провизии и заплачу за прошлую осень всю десятину. Кстати, наверное, пора подыскивать и повитуху?
– Можно подождать еще месяц, Пепе… – Марикилья слабо улыбнулась, но тут же снова беспокойно вгляделась в лицо Рамиреса. – Нет, прости, но я не верю тебе! Что-то произошло… Ужасное… Погибли все лозы, да? Мы совсем разорены?
Дон Рамирес отвернулся и вместо ответа качнул на колене дочь.
– Спой-ка нам эту замечательную песню, которой научил тебя падре Челестино. Ну, эту, про милую смуглянку…
– Нет, я лучше спою вам ту, что поют в лавочке у Франсины. – И, лукаво склонив голову набок, Клаудиа запела глуховатым, но верным голоском:
Сын единственный у графа,
Сын один во всем роду.
Он отправлен был в ученье
К господину королю.
Он в чести у короля,
Он в чести у королевы…
– Замолчи-ка, малышка, – вдруг остановил ее дон Рамирес и потупился. – Ты замечательно поешь, но маме, наверное, нездоровится и раз она не хочет играть с нами… Знаешь, а что если ты отправишься сегодня в Мурнету и пробудешь там до утра? У Гедеты заболел какой-то родственник в Матаро, я ее отпустил, а у нас как раз овца должна объягниться… Правда, там Перикито, да в этом деле, скорее, нужна женская рука. А ты у нас уже взрослая и отличная хозяйка… и на тебя можно положиться? Я прав, Клаудита? – В голосе Рамиреса звучали гордость и странная тоска.
– О, конечно, папа! – Клаудита была бесконечно счастлива, что ей доверяется такое ответственное дело.
– Тогда поцелуй меня покрепче… Еще крепче. И ступай с Богом… Пока, Клаудита!
Клаудию не пришлось просить дважды, и уже вскоре после этого она шагала по дороге, меся грязь каблучками стоптанных туфель и распевая не дослушанную родителями песенку:
Дал король ему одежду,
Целый город – госпожа…[22 - Перевод Д. Самойлова.]
* * *
Поначалу, сидя в кошаре и ожидая ответственного момента, она мечтая о том, как овца, благодаря ее заботе и помощи, принесет сразу много здоровых ягнят, и как потом она их сама вырастит, и они с папой их продадут, получат за них много денег и как они, наконец, станут богаты и счастливы. Но день тянулся, а овца все не ягнилась. И вскоре девочка уже забыла, зачем пришла сюда, и остаток дня провела в играх, в которых ей не был нужен никто. Сидя на полуразвалившихся ступенях, в заброшенном саду, она чувствовала себя не бедной девочкой в полотняном платьице, а сказочно-прекрасной доньей Бланкой, заточенной в башне жестоким королем. Смешивая времена и персонажи, Клаудита то громко декламировала монолог Андромахи, то шептала молитвы, то пела старинные романсеро… И только одного не доставало ей в этой игре – того смелого неведомого рыцаря, который бросил бы королевский дворец и, вспомнив детство, примчался в Мурнету на своем взмыленном, покрытом хлопьями белой пены Бабьеке…
Незаметно спустилась ночь. Подул свежий морской ветер, густая лунная тень от дома легла на пробившуюся недавно траву, и белесоватые полутона деревьев слились вдали в одно неясное пятно. Какое-то странное полугрустное-полумечтательное настроение охватило девочку. Все ее мысли и чувства приобрели особенную мягкость и гармоничность, тоже переходящие в полутона. Ее вновь охватило стремление к чему-то хорошему, в голове забродили мечты о будущем, и беспричинные слезы подступили к глазам. Незаметно для самой себя она даже начала тихонько всхлипывать… Но вдруг сквозь эти легкие, девические слезы она увидела, что на каменных плитах двора, словно из-под земли появились два кролика. Появились и мгновенно исчезли, словно испарились. Потом затрещала и сорвалась с петли дверь старого сарая, и там что-то шевельнулось. Девочке показалось, что она нечаянно стала участницей какого-то волшебного представления, и, поднявшись со ступеней, Клаудита смело направилась к сараю, в котором, как ей показалось, скрылись кролики, никогда раньше здесь ею не замечаемые. Внутри стоял зеленый сумрак от плюща, заполонившего весь сарай. В углу что-то вздохнуло, Клаудиа сделала шаг и … рухнула на колченогую кровать, густо поросшую влажным мхом. Руки ее коснулись чего-то теплого.
– Кто здесь? – прошептала она, не испытывая, впрочем, особого страха, хотя и отпрянула от неожиданности.
– Простите меня, сенья[23 - Сенья – простонародное обращение к знатной женщине в Испании.]. Это я, Педро. Я…
– Но я не знаю никакого Педро! А впрочем, папа мне что-то говорил. Но что вы здесь делаете?
– Да разве вы не знаете!? Я уже не первый год служу у вашего отца, а с осени дон Рамирес стал платить мне по десять реалов в месяц. Только я скоро ему сказал, что за такую работу можно и одними харчами – с овцами-то не густо… – Ломающийся мальчишеский голос вдруг сбился. – Дон Рамирес, сенья, он такой хороший, ему служить – уже честь…
– Я, представьте себе, и сама хорошо знаю своего отца. Но что вы делаете здесь? И откуда здесь кролики? – задала, наконец, Клаудита наиболее волнующий ее вопрос.
– Кролики? Да я, вот…
– И выйдите, пожалуйста, на свет, а то можно подумать, что я разговариваю с привидением!
Кровать заскрипела и зашаталась, и в проеме, залитом лунным светом, показалась фигура худого, но широкоплечего мальчика лет тринадцати с белым кроликом на руках.
– Педро Сьерпес к вашим услугам, сенья. А это, – указал он на кролика, к которому Клаудиа уже в восторге протягивала руки, – Фатьма. Или нет? – Он бесцеремонно поднял кролика за уши, вглядываясь в серое брюшко. – Нет, это – Редуан.[24 - Фатьма и Редуан – пара постоянно ссорящихся влюбленных, герои испанской народной баллады.]