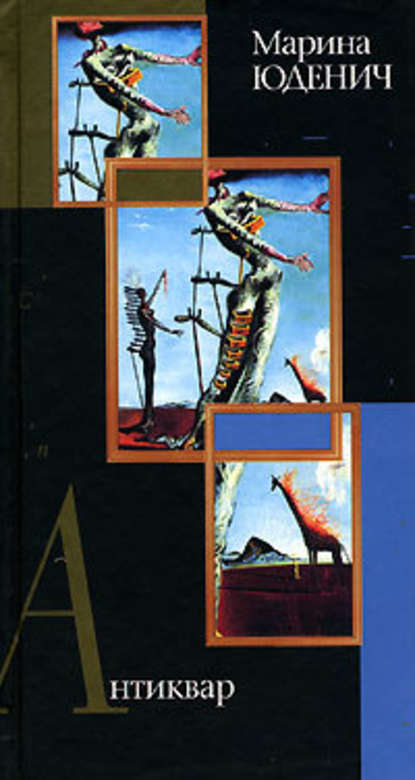По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Антиквар
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В высшей степени. И может погибнуть.
– С’est terrible…[11 - Это ужасно… (фр.).] Но что тут поделаешь?
– Я полагал, тебе он не посмеет отказать…
– Быть может. Но каков в этом случае буду я? Припомнить услугу, оказанную бескорыстно, и требовать чего-то… Не знаю, mon prince…
– Помилуй, Michel! Зачем же непременно припоминать? Просто обратись к нему, это так естественно. Un mot…[12 - Одно слово… (фр.).] В конце концов, les devoirs d’un сhrеtien…[13 - …долг христианина (фр.).]
– Vraiment?[14 - Действительно? (фр.).]
– Уверяю тебя. К тому же, мon cher, сегодня такой день… Многолетние труды Николая Петровича на ниве просвещения России знаменуют собой целую эпоху. Румянцевскую эпоху. Тебе – продолжать.
– Что ж, je me rends![15 - …сдаюсь! (фр.).] Ты речист, князь Борис. Будь по-твоему!
Молодая хрупкая дама с лицом бледным, будто восковым, легко, словно не шла, а парила в пространстве, пересекла гостиную, негромко обратилась к графу:
– Mon cher, tu m’as promis…[16 - Мой дорогой, ты обещал… (фр.).] – При этом она ласково улыбалась Борису. – Вы не рассердитесь, князь, если я украду кузена ненадолго?
– Возможно ли сердиться на вас, chиrе princesse?[17 - дорогая княжна (фр.).]
Разговор был прерван, и на некоторое время собеседники потеряли друг друга в толпе.
Они сошлись вновь, уже прощаясь, и обменялись короткими репликами, понятными только им.
При этом Борис Куракин на мгновение задержал руку графа Румянцева в своей руке.
– C’est arrкtе?[18 - Так решено? (фр.).]
– Ma parole d’honneur![19 - Даю слово! (фр.).]
Москва, год 2002-й
Московский антикварный салон открывался, как водится, шумно.
Охочая до зрелищ столичная публика с утра стекалась к невыразительному зданию на Крымском валу.
Унылый дом, будто в насмешку над всеми изящными искусствами, был не чем иным, как Центральным домом художника.
Художники, похоже, с архитектурным конфузом сжились вполне.
В Доме постоянно действовали какие-то экспозиции. В фойе бойко торговали замысловатыми шляпками, нарядными куклами ручной работы, статуэтками из камня и прочими художественными поделками.
Снаружи бурлил рынок.
Продавалось все: от монументальных живописных полотен до лубочных московских пейзажей и причудливых украшений из дерева, кожи и металла.
Сегодня, однако, рынок был сметен нашествием автомобилей, способных украсить любой – даже самый взыскательный – автосалон.
Публика собиралась самая разношерстная.
Известные всему миру коллекционеры, маститые антиквары из обеих столиц, эксперты, ценители и знатоки старины бок о бок с несостоявшимися гениями – оборванными, полусумасшедшими художниками, безработными реставраторами, ловкими творцами новодела.
Суетились побитые молью, спившиеся потомки советской аристократии, присвоившей однажды чужие сокровища, для верности перебив владельцев. Пришло время расстаться с награбленным. Пытались, однако, не продешевить.
Вертели головами представители новых элит, наслышанные уже о непреходящей ценности всяческой старины. Впрочем, не слишком еще понимали, что к чему, и потому пыжились нещадно, напуская на себя деланное безразличие. Монотонно работали челюстями, перекатывали во рту бесконечную жвачку.
Впрочем, в этой породе встречались уже особи, вполне постигшие искусство жить красиво. Эти были почти безупречно элегантны, изучали витрины со знанием дела и – в сущности, едва ли не единственные – покупали.
Не обошлось, разумеется, без дам полусвета и журналистов.
Сотни ног шаркали по начищенному до блеска нарядному паркету, отражавшему, как зеркало, яркий свет торжественных люстр.
Огромный зал разделен был на множество крохотных площадок, и каждая стала на эти дни маленьким самостоятельным миром вещей и вещиц, сохранивших дыхание прошлого.
Оживали интерьеры скромных помещичьих усадеб и помпезных дворцов.
Из тяжелых золоченых багетов строго и печально смотрели на суетящихся потомков нарядные дамы в кисейных платьях, суровые генералы в мундирах с эполетами, кротко улыбались девушки в кокошниках, подозрительно хмурились старухи в чепцах.
Раззолоченные и скромно-пастельные, разукрашенные замысловатым цветочным узором и строгим античным орнаментом, глядели из витрин парадные сервизы и одинокие чашки с трещинками.
Кузнецов, Корнилов, Гарднер…
Хрупкий фарфор, переживший столетия.
Тускло поблескивало массивное столовое серебро.
И ослепляли – выгодно оттененные темным бархатом старинных футляров – драгоценные камни.
Кольца, броши, колье, диадемы.
Морозов, Сазиков, Губкин, Фаберже…
Каким чудом сохранились в бурлящей, неспокойной России?
Как пережили лихолетье?
Оставалось только дивиться.
И – дивились.
Люди, пришедшие просто посмотреть, пребывали, пожалуй, в большинстве.
Другое дело – антиквары.
Те, кто сподобился выставить свои сокровища на всеобщее обозрение, те, кто не рискнул, не захотел или не смог, – все едино.
Им было здесь раздолье.