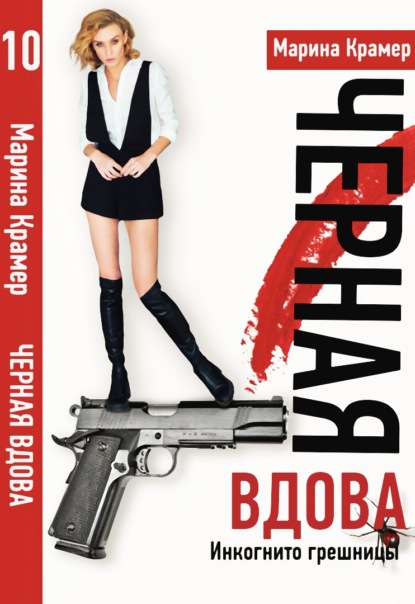По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Инкогнито грешницы, или Небесное правосудие
Автор
Год написания книги
2012
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это… а-а-а, так… Кислотой облился из аккумулятора.
Примерно это же он сказал Марине в аэропорту, не желая выдавать истинной причины – нелепой, почти детской попытки свести татуировки, много лет заставлявшие его в Англии прятать руки в перчатках в любое время года. Ожоги оказались глубокими, рубцы – безобразными, а левая кисть плохо слушалась и почти не разгибалась.
– Кислотой? – упорствовал тесть, и Женька кивнул.
– Помогал Машке аккумулятор поменять.
Машку, подругу Марины еще с незапамятных времен, Виктор Иванович знал. Однако что делал Женька, объявленный в розыск, в Сибири, где она жила? Взгляд тестя стал недоверчивым, и Хохол тоже вдруг понял, что слегка прокололся.
– Виктор Иванович, дела были… и с Маринкой повздорили крупно из-за этой ее операции… словом, не копайте глубже, а? – попросил он. – Врать не хочу, а правды сказать тоже пока не могу.
Старый журналист вздохнул. Дочь и зять вели такой образ жизни, при котором лучше действительно не задавать лишних вопросов.
– Что мне с пацаном делать, Виктор Иванович? – перевел разговор в более безопасное русло Женька, в самом деле обеспокоенный реакцией Грегори на новый облик матери. – Маринка с ума сходит, да что уж теперь… Раньше думать надо было. Но как Грегу объяснить?
– С Грегом я разберусь сама! – раздался в дверях голос Марины, и Хохол резко обернулся.
Она стояла, вцепившись пальцами в косяки, и ее чужое теперь лицо выглядело почти отталкивающим. Виктор Иванович охнул, прикрыв рукой рот, но сумел совладать с собой, приблизился к дочери и обнял ее. Марина так и не сдвинулась с места, и только побелевшие костяшки пальцев выдавали ее напряжение.
– Папа, если тебя что-то не устраивает в моей внешности, то придется смириться – по-другому уже никогда не будет, – сухо бросила она. – То, что я делаю с собой, касается только меня. И тебе придется принять это – или не принять, как хочешь. Но оправдываться я не буду.
– Да я же не прошу тебя оправдываться, – виновато проговорил отец, отстраняясь от нее. – Просто ты могла бы хоть иногда считаться и с нашими чувствами тоже – с Жениными вот, с моими… наконец, у тебя есть сын, который еще недостаточно взросл, чтобы понимать и принимать…
– Я же сказала – с Грегом я все решу сама! – отрезала Коваль и, развернувшись, ушла на второй этаж.
Виктор Иванович остался стоять у двери, чуть ссутулив прямые плечи и опустив голову. Хохол вздохнул – поведение жены иной раз ставило его в тупик. Марина вроде бы и любила отца, которого обрела уже во взрослом возрасте, вроде бы простила ему то, что провела детство так, как провела, – с пьющей матерью, а не в благополучной семье успешного журналиста. Но порой позволяла себе вот такой тон в разговоре, такие резкие слова и категоричные суждения, безапелляционные фразы и холод во взгляде, и от этого Виктор Иванович ощутимо терялся, сникал и старался как будто сделаться даже меньше ростом и не попадаться дочери на глаза. Хохол же в такие моменты чувствовал себя не в своей тарелке – возражать Марине он не мог, понимая, что у той есть некое право винить отца в каких-то своих детских обидах, но и позволять ей вести себя подобным образом тоже не хотел. Это несоответствие заставляло его злиться; Женька старался уйти в подвал, где был оборудован небольшой спортивный зал, и там долго колотил голыми руками макивару, чтобы сбросить злость и напряжение.
Сейчас он решил иначе.
– Пойду послушаю, о чем говорят, – пояснил тестю, поднимаясь со стула и направляясь следом за Коваль наверх.
Поднявшись на цыпочках по лестнице, Женька подошел к закрытой двери в комнату Грегори и осторожно прижался ухом. В комнате ничего не происходило, но чуткий Хохол слышал, как тяжело дышит Марина, привалившаяся спиной к двери с той стороны. Наконец она заговорила своим чуть хрипловатым голосом:
– Егор, сынок… я все тебе объясню, только повернись ко мне, пожалуйста. Я не могу разговаривать с твоей спиной.
Мальчик не ответил. Хохол старался пореже дышать, боялся обнаружить себя – не хотел, чтобы Марина разозлилась и обвинила его во вмешательстве в ее разговоры с сыном.
– Егор. Ты уже взрослый, ты должен меня понять, – говорила меж тем Коваль, и Женька понял: Грегори все-таки повернулся к ней лицом – иначе она не стала бы разговаривать. – Я уже не так молода, как раньше. Мне очень хочется, чтобы папа по-прежнему восхищался мной…
– Мой папа давно умер! – четко выговорил Грегори, и у Хохла мурашки побежали по спине. – Он не может видеть тебя!
– Егор! – чуть повысила голос Марина. – Мы сто раз обсуждали это. Твой отец – Женя, он воспитал тебя, вырастил. И ты должен проявлять уважение к нему. Он не сделал тебе ничего плохого, никогда ничего – ведь так?
– Он делал плохо тебе, – упрямо сказал мальчик.
– Это тебя не касается! Если уж на то пошло – то я сама была виновата. Но я люблю его, и он любит меня. И я хочу, чтобы так оставалось и дальше, ведь папа – самый родной человек и для меня, и для тебя тоже. И я хочу нравиться ему, понимаешь? Когда ты вырастешь, у тебя тоже будет жена, и ей тоже будет хотеться, чтобы ты смотрел всегда только на нее…
– И ради этого ты испортила себе лицо? – Хохол услышал в голосе Грегори сдерживаемые слезы, и сердце его сжалось от сочувствия – мальчику очень хотелось плакать, но он не мог позволить себе слез при матери. Она всегда говорила – мужики не рыдают, как девчонки.
– Испортила? – чуть удивленно протянула Коваль. – Ты считаешь, я стала хуже?
– Ты стала чужая! – выкрикнул Грегори. – Чужая! Ты теперь не моя мама, ты просто какая-то незнакомая тетка! И ты ради него… ради него… а как же я? Как же я? Почему ты не спросила у меня?
– Егор, что ты говоришь… зачем ты это говоришь? – простонала Марина, и Женька услышал, как она скользнула спиной по двери, опустившись на пол. Пора было вмешиваться…
Он решительно дернул ручку и вошел в комнату, стараясь на ходу придать лицу легкомысленное выражение, как будто не слышал ни слова из их разговора.
– Вы чего это тут?
Марина даже не повернулась, так и сидела на полу у его ног, обхватив руками голову, а Грегори… В прямом детском взгляде, устремленном на Хохла, он вдруг прочитал ненависть – настоящую ненависть и ревность. Две слезинки выкатились на щеки, но мальчик быстро смахнул их тыльной стороной ладошки и отвернулся.
– Это из-за тебя, – пробормотал он по-английски, прекрасно зная, что Хохол не понимает практически ничего.
Да, Женька не понял слов – но чутко уловил интонацию мальчика и заметил, как дернулась сидящая на полу Марина, однако решил оставить все, как есть. В конце концов, несерьезно взрослому мужику спорить с ребенком, даже если предмет спора – любимая обоими женщина.
– Мэриэнн…
Она подняла голову и негромко спросила по-русски:
– Какого хрена? Я просила!
Хохол опустился на корточки, привлек ее к себе и прошептал на ухо:
– Не знаю, что тут произошло, но прошу тебя – прекрати. Не дави на него сейчас, дай ему привыкнуть, присмотреться. Оставь хотя бы на ночь, вот увидишь – завтра все пойдет иначе. Идем.
Он заставил Марину встать и выйти из комнаты. Грегори даже не обернулся, не проводил их взглядом, так и сидел на кровати, поджав ноги и глядя в окно.
Коваль пролежала в спальне весь день, не вышла ни к обеду, ни к ужину, и Женька настрого запретил тестю подниматься к ней. И только поздно вечером, когда Виктор Иванович уже ушел к себе, Хохол вдруг услышал легкие детские шаги на втором этаже – это Грегори пробежал в родительскую спальню. Женька не стал мешать их разговору, ушел смотреть телевизор и так и задремал перед экраном, очнувшись только среди ночи. Поднявшись в спальню, он обнаружил, что Грегори спит рядом с Мариной, крепко держа ее за руку. Коваль же не спала, лежала на спине, уставившись в потолок. Она чуть повернула голову на звук открывшейся двери и улыбнулась Женьке почти прежней улыбкой. Хохол бережно поднял сына и унес его в комнату, укрыл одеялом и выключил ночник у кровати.
– Почему ты всегда знаешь наперед, как будет? – проговорила Коваль, когда он вернулся в спальню и сел на край кровати.
– Тут нечего знать, котенок, – привлекая ее к себе, вздохнул Женька. – Он еще слишком мал, чтобы понять твои закидоны. Я-то не каждый раз догадываюсь, а где уж пацаненку…
Марина спрятала лицо у него на груди и пробормотала:
– Хохол, что бы я делала без тебя, а?
– Жила бы, – улыбнулся он, но Марина дотянулась рукой до его губ и закрыла их, как запечатала.
– Не хочу об этом. Не хочу без тебя. Ты мой.
Она не увидела в темноте спальни, как Хохол пытается загнать внутрь рвущиеся эмоции. «Ты мой» – это звучало для него куда полновеснее, чем все слова о любви.
…В сизых клубах сигаретного дыма за стойкой в маленьком пабе Хохол снова и снова прокручивал в голове этот момент и эти слова. Наверное, в тот момент Марина именно так и чувствовала… Но куда все это делось сейчас, сегодня? Даже в собственный день рождения Коваль осталась верна себе и испортила все…
Оставшись на тропинке одна, Коваль медленно вынула пачку сигарет и зажигалку, закурила, натянула тонкие кожаные перчатки и двинулась по аллее дальше, как будто ничего не произошло. Вспышка ярости Хохла не вызвала у нее особых эмоций – Марина прекрасно понимала, что с возрастом ему все тяжелее становится удерживать себя в рамках, все труднее признавать ее главенство и тяжелее зависеть от нее в моральном плане. А его зависимость была очевидна. Неглупый по жизни, хоть и не имевший образования, Хохол и сам это понимал и оттого злился еще сильнее.
Марина не пошла к машине, решила не добивать мужа совсем – пусть поедет домой один, одумается, переварит все, что сказал. Она отлично знала – уже сейчас, сидя за рулем, он жалеет обо всем и готов просить прощения. Но она не была готова их принимать. Всему наступает предел, и, видимо, вот он и наступил – Марина чувствовала опустошение и совершеннейшее нежелание разговаривать с мужем и вообще видеть его.
Примерно это же он сказал Марине в аэропорту, не желая выдавать истинной причины – нелепой, почти детской попытки свести татуировки, много лет заставлявшие его в Англии прятать руки в перчатках в любое время года. Ожоги оказались глубокими, рубцы – безобразными, а левая кисть плохо слушалась и почти не разгибалась.
– Кислотой? – упорствовал тесть, и Женька кивнул.
– Помогал Машке аккумулятор поменять.
Машку, подругу Марины еще с незапамятных времен, Виктор Иванович знал. Однако что делал Женька, объявленный в розыск, в Сибири, где она жила? Взгляд тестя стал недоверчивым, и Хохол тоже вдруг понял, что слегка прокололся.
– Виктор Иванович, дела были… и с Маринкой повздорили крупно из-за этой ее операции… словом, не копайте глубже, а? – попросил он. – Врать не хочу, а правды сказать тоже пока не могу.
Старый журналист вздохнул. Дочь и зять вели такой образ жизни, при котором лучше действительно не задавать лишних вопросов.
– Что мне с пацаном делать, Виктор Иванович? – перевел разговор в более безопасное русло Женька, в самом деле обеспокоенный реакцией Грегори на новый облик матери. – Маринка с ума сходит, да что уж теперь… Раньше думать надо было. Но как Грегу объяснить?
– С Грегом я разберусь сама! – раздался в дверях голос Марины, и Хохол резко обернулся.
Она стояла, вцепившись пальцами в косяки, и ее чужое теперь лицо выглядело почти отталкивающим. Виктор Иванович охнул, прикрыв рукой рот, но сумел совладать с собой, приблизился к дочери и обнял ее. Марина так и не сдвинулась с места, и только побелевшие костяшки пальцев выдавали ее напряжение.
– Папа, если тебя что-то не устраивает в моей внешности, то придется смириться – по-другому уже никогда не будет, – сухо бросила она. – То, что я делаю с собой, касается только меня. И тебе придется принять это – или не принять, как хочешь. Но оправдываться я не буду.
– Да я же не прошу тебя оправдываться, – виновато проговорил отец, отстраняясь от нее. – Просто ты могла бы хоть иногда считаться и с нашими чувствами тоже – с Жениными вот, с моими… наконец, у тебя есть сын, который еще недостаточно взросл, чтобы понимать и принимать…
– Я же сказала – с Грегом я все решу сама! – отрезала Коваль и, развернувшись, ушла на второй этаж.
Виктор Иванович остался стоять у двери, чуть ссутулив прямые плечи и опустив голову. Хохол вздохнул – поведение жены иной раз ставило его в тупик. Марина вроде бы и любила отца, которого обрела уже во взрослом возрасте, вроде бы простила ему то, что провела детство так, как провела, – с пьющей матерью, а не в благополучной семье успешного журналиста. Но порой позволяла себе вот такой тон в разговоре, такие резкие слова и категоричные суждения, безапелляционные фразы и холод во взгляде, и от этого Виктор Иванович ощутимо терялся, сникал и старался как будто сделаться даже меньше ростом и не попадаться дочери на глаза. Хохол же в такие моменты чувствовал себя не в своей тарелке – возражать Марине он не мог, понимая, что у той есть некое право винить отца в каких-то своих детских обидах, но и позволять ей вести себя подобным образом тоже не хотел. Это несоответствие заставляло его злиться; Женька старался уйти в подвал, где был оборудован небольшой спортивный зал, и там долго колотил голыми руками макивару, чтобы сбросить злость и напряжение.
Сейчас он решил иначе.
– Пойду послушаю, о чем говорят, – пояснил тестю, поднимаясь со стула и направляясь следом за Коваль наверх.
Поднявшись на цыпочках по лестнице, Женька подошел к закрытой двери в комнату Грегори и осторожно прижался ухом. В комнате ничего не происходило, но чуткий Хохол слышал, как тяжело дышит Марина, привалившаяся спиной к двери с той стороны. Наконец она заговорила своим чуть хрипловатым голосом:
– Егор, сынок… я все тебе объясню, только повернись ко мне, пожалуйста. Я не могу разговаривать с твоей спиной.
Мальчик не ответил. Хохол старался пореже дышать, боялся обнаружить себя – не хотел, чтобы Марина разозлилась и обвинила его во вмешательстве в ее разговоры с сыном.
– Егор. Ты уже взрослый, ты должен меня понять, – говорила меж тем Коваль, и Женька понял: Грегори все-таки повернулся к ней лицом – иначе она не стала бы разговаривать. – Я уже не так молода, как раньше. Мне очень хочется, чтобы папа по-прежнему восхищался мной…
– Мой папа давно умер! – четко выговорил Грегори, и у Хохла мурашки побежали по спине. – Он не может видеть тебя!
– Егор! – чуть повысила голос Марина. – Мы сто раз обсуждали это. Твой отец – Женя, он воспитал тебя, вырастил. И ты должен проявлять уважение к нему. Он не сделал тебе ничего плохого, никогда ничего – ведь так?
– Он делал плохо тебе, – упрямо сказал мальчик.
– Это тебя не касается! Если уж на то пошло – то я сама была виновата. Но я люблю его, и он любит меня. И я хочу, чтобы так оставалось и дальше, ведь папа – самый родной человек и для меня, и для тебя тоже. И я хочу нравиться ему, понимаешь? Когда ты вырастешь, у тебя тоже будет жена, и ей тоже будет хотеться, чтобы ты смотрел всегда только на нее…
– И ради этого ты испортила себе лицо? – Хохол услышал в голосе Грегори сдерживаемые слезы, и сердце его сжалось от сочувствия – мальчику очень хотелось плакать, но он не мог позволить себе слез при матери. Она всегда говорила – мужики не рыдают, как девчонки.
– Испортила? – чуть удивленно протянула Коваль. – Ты считаешь, я стала хуже?
– Ты стала чужая! – выкрикнул Грегори. – Чужая! Ты теперь не моя мама, ты просто какая-то незнакомая тетка! И ты ради него… ради него… а как же я? Как же я? Почему ты не спросила у меня?
– Егор, что ты говоришь… зачем ты это говоришь? – простонала Марина, и Женька услышал, как она скользнула спиной по двери, опустившись на пол. Пора было вмешиваться…
Он решительно дернул ручку и вошел в комнату, стараясь на ходу придать лицу легкомысленное выражение, как будто не слышал ни слова из их разговора.
– Вы чего это тут?
Марина даже не повернулась, так и сидела на полу у его ног, обхватив руками голову, а Грегори… В прямом детском взгляде, устремленном на Хохла, он вдруг прочитал ненависть – настоящую ненависть и ревность. Две слезинки выкатились на щеки, но мальчик быстро смахнул их тыльной стороной ладошки и отвернулся.
– Это из-за тебя, – пробормотал он по-английски, прекрасно зная, что Хохол не понимает практически ничего.
Да, Женька не понял слов – но чутко уловил интонацию мальчика и заметил, как дернулась сидящая на полу Марина, однако решил оставить все, как есть. В конце концов, несерьезно взрослому мужику спорить с ребенком, даже если предмет спора – любимая обоими женщина.
– Мэриэнн…
Она подняла голову и негромко спросила по-русски:
– Какого хрена? Я просила!
Хохол опустился на корточки, привлек ее к себе и прошептал на ухо:
– Не знаю, что тут произошло, но прошу тебя – прекрати. Не дави на него сейчас, дай ему привыкнуть, присмотреться. Оставь хотя бы на ночь, вот увидишь – завтра все пойдет иначе. Идем.
Он заставил Марину встать и выйти из комнаты. Грегори даже не обернулся, не проводил их взглядом, так и сидел на кровати, поджав ноги и глядя в окно.
Коваль пролежала в спальне весь день, не вышла ни к обеду, ни к ужину, и Женька настрого запретил тестю подниматься к ней. И только поздно вечером, когда Виктор Иванович уже ушел к себе, Хохол вдруг услышал легкие детские шаги на втором этаже – это Грегори пробежал в родительскую спальню. Женька не стал мешать их разговору, ушел смотреть телевизор и так и задремал перед экраном, очнувшись только среди ночи. Поднявшись в спальню, он обнаружил, что Грегори спит рядом с Мариной, крепко держа ее за руку. Коваль же не спала, лежала на спине, уставившись в потолок. Она чуть повернула голову на звук открывшейся двери и улыбнулась Женьке почти прежней улыбкой. Хохол бережно поднял сына и унес его в комнату, укрыл одеялом и выключил ночник у кровати.
– Почему ты всегда знаешь наперед, как будет? – проговорила Коваль, когда он вернулся в спальню и сел на край кровати.
– Тут нечего знать, котенок, – привлекая ее к себе, вздохнул Женька. – Он еще слишком мал, чтобы понять твои закидоны. Я-то не каждый раз догадываюсь, а где уж пацаненку…
Марина спрятала лицо у него на груди и пробормотала:
– Хохол, что бы я делала без тебя, а?
– Жила бы, – улыбнулся он, но Марина дотянулась рукой до его губ и закрыла их, как запечатала.
– Не хочу об этом. Не хочу без тебя. Ты мой.
Она не увидела в темноте спальни, как Хохол пытается загнать внутрь рвущиеся эмоции. «Ты мой» – это звучало для него куда полновеснее, чем все слова о любви.
…В сизых клубах сигаретного дыма за стойкой в маленьком пабе Хохол снова и снова прокручивал в голове этот момент и эти слова. Наверное, в тот момент Марина именно так и чувствовала… Но куда все это делось сейчас, сегодня? Даже в собственный день рождения Коваль осталась верна себе и испортила все…
Оставшись на тропинке одна, Коваль медленно вынула пачку сигарет и зажигалку, закурила, натянула тонкие кожаные перчатки и двинулась по аллее дальше, как будто ничего не произошло. Вспышка ярости Хохла не вызвала у нее особых эмоций – Марина прекрасно понимала, что с возрастом ему все тяжелее становится удерживать себя в рамках, все труднее признавать ее главенство и тяжелее зависеть от нее в моральном плане. А его зависимость была очевидна. Неглупый по жизни, хоть и не имевший образования, Хохол и сам это понимал и оттого злился еще сильнее.
Марина не пошла к машине, решила не добивать мужа совсем – пусть поедет домой один, одумается, переварит все, что сказал. Она отлично знала – уже сейчас, сидя за рулем, он жалеет обо всем и готов просить прощения. Но она не была готова их принимать. Всему наступает предел, и, видимо, вот он и наступил – Марина чувствовала опустошение и совершеннейшее нежелание разговаривать с мужем и вообще видеть его.