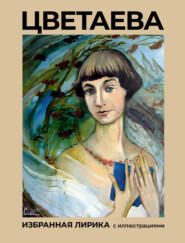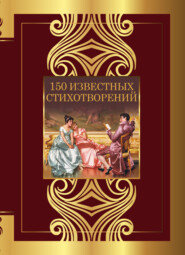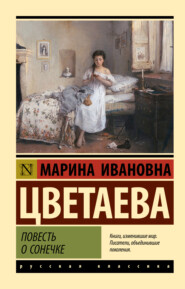По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Живое о живом (Волошин)
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1932
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ничего не сгорело: ни любимые картины Богаевского, ни чудеса со всех сторон света, ни египтянка Таиах, не завилась от пламени ни одна страничка тысячетомной библиотеки. Мир, восставленный любовью и волей одного человека, уцелел весь. Хозяин здешних мест, не пожелавший спасти одно и оставить другое, Максимилиан Волошин, и здесь не пожелавший выбрать и не смогший предпочесть, до того он сам был это все, и весь в каждой данной вещи, Максимилиан Волошин сохранил все.
Что наши ведра? Только добрая воля тех, кто знает, что он огня не остановит подъятием руки, что ему руки даны – носить. Только выход энергии: когда горит – не сидеть руки сложа. Пожар был остановлен – словом.
Самое замечательное в этой примечательной новогодней ночи, что мы с Асей, принеся очередное, уже явно ненужное ведро, внезапно и каменно заснули. Каждая, где стояла. Так потихонечку и сползли. И до того заспались, что, увидев над собой широченную во все лицо улыбку Макса – в эту секунду лицо равнялось улыбке и улыбка – лицу, – невольно зажмурились от него, как от полдневного солнца.
Макс и сказка
Чем глубже я гляжусь в бездонный колодец памяти, тем резче встают мне навстречу два облика Макса: греческого мифа и германской сказки. Гриммовской сказки. Добрый людоед, ручной медведь, домовитый гном и, шире: дремучий лес, которым прирученный медведь идет за девушкой. Макс был не только действующим лицом, но местом действия сказки Гримма. Медведь-Макс за Розочкой и Беляночкой пробирался по зарослям собственных кудрей.
Помню картинку над своей детской кроватью: в лесу, от роста лежащего кажущемся мхом, в мелком и курчавом, как мох, лесу, на боку горы, как на собственном, спит великан. Когда я десять лет спустя встретила Макса, я этого великана и этот лес узнала. Этот лес был Макс, этот великан был Макс. Так, через случайность детской картинки над кроватью, таинственно восстанавливается таинственная принадлежность Макса к германскому миру, моим тем узнаванием в нем Гримма – подтверждается, О германской крови Макса я за всю мою дружбу с ним не думала, теперь, идя назад к истокам его прародины и моего младенчества – я эту кровь в нем знаю и утверждаю.
В его физике не было ничего русского. Даже курчавые волосы (в конце концов не занимать стать: у нас все добрые молодцы и кучера курчавые) за кучерские не сошли. (Свойство русского волоса – податливость, вьются как-то от всего, у Макса же волос был неукротимый.) И такие ледяные голубо-зеленые глаза никогда не сияли под соболиными бровями ни одного доброго молодца. Никому и в голову не приходило наградить его «богатырем». Богатырь прежде всего тяжесть (равно как великан прежде всего скорость). Тяжесть даже не физическая, а духовная. Физика, ставшая психикой. Великан – шаг, богатырь – вес. Богатырь и по земле ступить не может, потому что провалится, ее, землю, провалит. Богатырю ничего не остается, кроме как сидеть на коне и на печке сиднем. (Один даже от собственной силы, то есть тяжести, ушел в землю, сначала по колено, потом по пояс, а потом совсем.) Сила богатыря есть сила инерции, то есть тяжесть. В Максе ни сидня, ни тяжести, ни богатыря. Он сам был конь! Помню, как на скамейке перед калиткой – я сидела, он стоял – он, читая мне свой стих, кончающийся названием греческих островов, неожиданно: Наксос – прыжок, Делос – прыжок и Микэн – до неба прыжок! Его веское тело так же не давило землю, как его веская дружба – души друзей. А по скалам он лазил, как самая отчаянная коза. Его широкая ступня в сандалии держалась на уступе скалы только на честном слове доверия к этой скале, единстве с этой скалой.
Еще особенность наших сказок: полное отсутствие уюта: страшные – скрызь. Макс же в быту был весь уют. И чувство, которое он вызывал даже в минуты гнева, был тот страх с улыбкой, сознание, что хорошо кончится, которое неизменно возбуждают в нас все гриммовские великаны и никогда не возбудит Кащей или другое какое родное чудовище. Ибо гнев Макса – как гнев божества и ребенка – мог неожиданно кончиться смехом – дугой радуги! Гнев же богатыря неизменно кончается ударом по башке, то есть смертью. Макс был сказка с хорошим концом. Про Макса, как про своего сына, – кстати, в детстве они очень похожи, – могу сказать, что:
…славянской скуки —
Ни тени в красоте твоей!
Позднеславянской, то есть интеллигентской.
Физика Макса была широкими воротами в его сущность, физическая обширность – только введением в обширность духовную, физический жар его толстого тела только излучением того светового и теплового очага духа, у которого все грелись, от которого все горели; вся физическая сказочность его – только входом и вводом в тот миф, который был им и которым он был.
Но этим Макс и сказка не исчерпаны. Это действующее лицо и место действия сказки было еще и сказочник: мифотворец. О, сказочник прежде всего. Не сказитель, а слагатель. Отношение его к людям было сплошное мифотворчество, то есть извлечение из человека основы и выведение ее на свет. Усиление основы за счет «условий», сужденности за счет случайности, судьбы за счет жизни. Героев Гомера мы потому видим, что они гомеричны. Мифотворчество: то, что быть могло и быть должно, обратно чеховщине: тому, что есть, а чего, по мне, вовсе и нет. Усиление основных черт в человеке вплоть до видения – Максом, человеком и нами – только их. Все остальное: мелкое, пришлое, случайное, отметалось. То есть тот же творческий принцип памяти, о которой, от того же Макса слышала: «La mеmoire a bon go?t»[21 - У памяти хороший вкус (фр.).], то есть несущественное, то есть девяносто сотых – забывает.
Макс о событиях рассказывал, как народ, а об отдельных людях, как о народах. Точность его живописания для меня всегда была вне сомнения, как несомненна точность всякого эпоса. Ахилл не может быть не таким, иначе он не Ахилл. В каждом из нас живет божественное мерило правды, только перед коей прегрешив, человек является лжецом. Мистификаторство, в иных устах, уже начало правды, когда же оно дорастает до мифотворчества, оно – вся правда. Так было у Макса в том же случае Черубины. Что не насущно – лишне. Так и получаются боги и герои. Только в Максиных рассказах люди и являлись похожими, более похожими, чем в жизни, где их встречаешь не так и не там, где встречаешь не их, где они просто сами-не-свои и – неузнаваемы. Помню из уст Макса такое слово маленькой девочки. (Девочка впервые была в зверинце и пишет письмо отцу):
– Видела льва – совсем не похож.
У Макса лев был всегда похож. Кстати, чтобы не забыть. У меня здесь, в Кламаре, на столе, на котором пишу, под чернильницей, из которой пишу, тарелка. Столы и чернильницы меняются, тарелка пребывает, вывезла ее в 1913 году из Феодосии и с тех пор не расставалась. В моих руках она стала еще на двадцать лет старше. Тарелка страшно тяжелая, фаянсовая, старинная, английская, с коричневым побелу бордюром из греческих героев и английских полководцев. В центре лицо, даже лик: лев. Собственно, весь лев, но от величины головы тело просто исчезло. Грива, переходящая в бороду, а из-под гривы маленькие белые сверла глаз. Этот лев самый похожий из всех портретов Макса. Этот лев – Макс, весь Макс, более Макс, чем Макс. На этот раз жизнь занялась мифотворчеством.
Один-единственный пример на живой мне. В первый же день приезда в Коктебель – о драгоценных камнях его побережья всякий знает – есть даже бухта такая: Сердоликовая, – в первый день приезда в Коктебель я Максу: «М. А., как вы думаете, вы могли бы отгадать, какой мой самый любимый камень на всем побережье?» И уже час спустя, сама о себе слышу: – «Мама! Ты знаешь, что мне заказала М. И.? Найти и принести ей ее любимый камень на всем побережье!» Ну, не лучше ли так и не больше ли я? Я была тот черновик, который Макс мгновенно выправил.
Острый глаз Макса на человека был собирательным стеклом, собирательным – значит зажигательным. Все, что было своего, то есть творческого, в человеке, разгоралось и разрасталось в посильный костер и сад. Ни одного человека Макс – знанием, опытом, дарованием – не задавил. Он, ненасытностью на настоящее, заставлял человека быть самим собой. «Когда мне нужен я – я ухожу, если я к тебе прихожу – значит, мне нужен ты». Хотела было написать «ненасытность на подлинное», но тут же вспомнила, даже ушами услышала: «Марина! Никогда не употребляй слово „подлинное“. – „Почему? Потому что похоже на подлое?“ – „Оно и есть подлое. Во-первых, не подлинное, а подлинное, подлинная правда, та правда, которая под линьками, а линьки – те ремни, которые палач вырезает из спины жертвы, добиваясь признания, лжепризнания. Подлинная правда – правда застенка“.
Все, чему меня Макс учил, я запомнила навсегда.
Итак, Макс, ненасытностью на настоящее, заставлял человека быть самим собой. Знаю, что для молодых поэтов, со своим, он был незаменим, как и для молодых поэтов – без своего. Помню, в самом начале знакомства, у Алексея Толстого литературный вечер. Читает какой-то титулованный гвардеец: луна, лодка, сирень, девушка… В ответ на это общее место – тяжкое общее молчание. И Макс вкрадчиво, точно голосом ступая по горячему: «У вас удивительно приятный баритон. Вы – поете?» – «Никак нет». – «Вам надо петь, вам непременно надо петь». Клянусь, что ни малейшей иронии в этих словах не было; баритону, действительно, надо петь.
А вот еще рассказ о поэтессе Марии Паппер.
– М. И., к вам еще не приходила Мария Паппер?
– Нет.
– Значит, придет. Она ко всем поэтам ходит: и к Ходасевичу, и к Борису Николаевичу, и к Брюсову.
– А кто это?
– Одна поэтесса. Самое отличительное: огромные, во всякое время года, калоши. Обыкновенные мужские калоши, а из калош на тоненькой шейке, как на спичке, огромные темные глаза, на ниточках, как у лягушки. Она всегда приходит с черного хода, еще до свету, и прямо на кухню. «Что вам угодно, барышня?» – «Я к барину». – «Барин еще спят». – «А я подожду». Семь часов, восемь часов, девять часов. Поэты, как вы знаете, встают поздно. Иногда кухарка, сжалившись: «Может, разбудить барина? Если дело ваше уж очень спешное, а то наш барин иногда только к часу выходят. А то и вовсе не встают». – «Нет, зачем, мне и так хорошо». Наконец кухарка, не вытерпев, докладывает: «К вам барышни одне, гимназистки или курсистки, с седьмого часа у меня на кухне сидят, дожидаются». – «Так чего ж ты, дура, в гостиную не провела?» – «Я было хотела, а оне: мне, мол, и здеся хорошо. Я их и чаем напоила – и сама пила, и им налила, обиды не было».
Наконец встречаются: «барин» и «барышня». Глядят: Ходасевич на Марию Паппер, Мария Паппер на Ходасевича. «С кем имею честь?» Мышиный голос, как-то всё на и: «А я – Мария Па-аппер». – «Чем могу служить?» – «А я стихи-и пи-ишу…»
И, неизвестно откуда, огромный портфель, департаментский. Ходасевич садится к столу, Мария Паппер на диван. Десять часов, одиннадцать часов, двенадцать часов. Мария Паппер читает. Ходасевич слушает. Слушает – как зачарованный! Но где-то внутри – пищевода или души, во всяком случае, в месте, для чесания недосягаемом, зуд. Зуд все растет, Мария Паппер все читает. Вдруг, первый зевок, из последних сил прыжок, хватаясь за часы: «Вы меня – извините – я очень занят – меня сейчас ждет издатель – а я – я сейчас жду приятеля». – «Так я пойду-у, я еще при-иду-у».
Освобожденный, внезапно поласковевший Ходасевич:
– У вас, конечно, есть данные, но надо больше работать над стихом…
– Я и так все время пи-ишу…
– Надо писать не все время, а надо писать иначе…
– А я могу и иначе… У меня есть…
Ходасевич, понимая, что ему грозит:
– Ну конечно, вы еще молоды и успеете… Нет, нет, вы не туда, позвольте я провожу вас с парадного…
Входная дверь защелкнута, хозяин блаженно выхрустывает суставы рук и ног, и вдруг – бурей – пронося над головой обутые руки – из кухни в переднюю – кухарка:
– Ба-арышни! Ба-арышни! Ай, беда-то какая! Калошки забыли!
…Вы знаете, М. И., не всегда так хорошо кончается, иногда ей эти калоши летят вслед… Иногда, особенно если с верхнего этажа, попадают прямо на голову, но на голову или на ноги, Ходасевич или (скромно) со мной тоже было – словом: неделю спустя сидит поэт, пишет сонет… «Барин, а барин?» – «Что тебе?» – «Там к вам одне барышни пришли, с семи часов дожидаются… Мы с ними уже два раза чайку попили… Всю мне свою жизнь рассказали… (Конфузливо.) Писательницы».
Так некоторых людей Макс возводил в ранг химер. Книжку ее мне Макс принес. Называлась «Парус». Из стихов помню одни:
Во мне кипит, бурлит волна
Горячей крови семитической,
Я вся дрожу, я вся полна
Заветной тайны эстетической.
Иду я вверх, иду я вниз.
Я слышу пенье разнотонное, —
Родной сестрой мне стала рысь,
А братом озеро бездонное.
И еще такое четверостишие:
Я великого, нежданного,
Невозможного прошу,
И одной струей желанного
Вечный мрамор орошу.
Сказка была у него на всякий случай жизни, сказкой он отвечал на любой вопрос. Вот одна, на какой-то – мой:
Жил-был юноша, царский сын. У него был воспитатель, который, полагая, что все зло в мире от женщины, решил ему не показывать ни одной до его совершеннолетия. («Ты, конечно, знаешь, Марина, что на Афоне нет ни одного животного женского пола, одни самцы».) И вот в день его шестнадцатилетия воспитатель, взяв его за руку, повел его по залам дворца, где были собраны все чудеса мира. В одной зале – все драгоценные ткани, в другой – всее оружие, в третьей – всее музыкальные инструменты, в четвертой – все драгоценные ткани, в пятой, шестой (ехидно) – и так до тридцатой – все изречения мудрецов в пергаментных свитках, а в тридцать первой – все редкостные растения и, наконец, в каком-то сотом зале – сидела женщина. «А это что?» – спросил царский сын своего воспитателя. «А это, – ответил воспитатель, – злые демоны, которые губят людей.
Осмотрев весь дворец со всеми его чудесами, к концу седьмого дня воспитатель спросил у юноши: «Так что же тебе, сын мой, из всего виденного больше всего понравилось?
– А, конечно, те злые демоны, которые губят людей!»
Что наши ведра? Только добрая воля тех, кто знает, что он огня не остановит подъятием руки, что ему руки даны – носить. Только выход энергии: когда горит – не сидеть руки сложа. Пожар был остановлен – словом.
Самое замечательное в этой примечательной новогодней ночи, что мы с Асей, принеся очередное, уже явно ненужное ведро, внезапно и каменно заснули. Каждая, где стояла. Так потихонечку и сползли. И до того заспались, что, увидев над собой широченную во все лицо улыбку Макса – в эту секунду лицо равнялось улыбке и улыбка – лицу, – невольно зажмурились от него, как от полдневного солнца.
Макс и сказка
Чем глубже я гляжусь в бездонный колодец памяти, тем резче встают мне навстречу два облика Макса: греческого мифа и германской сказки. Гриммовской сказки. Добрый людоед, ручной медведь, домовитый гном и, шире: дремучий лес, которым прирученный медведь идет за девушкой. Макс был не только действующим лицом, но местом действия сказки Гримма. Медведь-Макс за Розочкой и Беляночкой пробирался по зарослям собственных кудрей.
Помню картинку над своей детской кроватью: в лесу, от роста лежащего кажущемся мхом, в мелком и курчавом, как мох, лесу, на боку горы, как на собственном, спит великан. Когда я десять лет спустя встретила Макса, я этого великана и этот лес узнала. Этот лес был Макс, этот великан был Макс. Так, через случайность детской картинки над кроватью, таинственно восстанавливается таинственная принадлежность Макса к германскому миру, моим тем узнаванием в нем Гримма – подтверждается, О германской крови Макса я за всю мою дружбу с ним не думала, теперь, идя назад к истокам его прародины и моего младенчества – я эту кровь в нем знаю и утверждаю.
В его физике не было ничего русского. Даже курчавые волосы (в конце концов не занимать стать: у нас все добрые молодцы и кучера курчавые) за кучерские не сошли. (Свойство русского волоса – податливость, вьются как-то от всего, у Макса же волос был неукротимый.) И такие ледяные голубо-зеленые глаза никогда не сияли под соболиными бровями ни одного доброго молодца. Никому и в голову не приходило наградить его «богатырем». Богатырь прежде всего тяжесть (равно как великан прежде всего скорость). Тяжесть даже не физическая, а духовная. Физика, ставшая психикой. Великан – шаг, богатырь – вес. Богатырь и по земле ступить не может, потому что провалится, ее, землю, провалит. Богатырю ничего не остается, кроме как сидеть на коне и на печке сиднем. (Один даже от собственной силы, то есть тяжести, ушел в землю, сначала по колено, потом по пояс, а потом совсем.) Сила богатыря есть сила инерции, то есть тяжесть. В Максе ни сидня, ни тяжести, ни богатыря. Он сам был конь! Помню, как на скамейке перед калиткой – я сидела, он стоял – он, читая мне свой стих, кончающийся названием греческих островов, неожиданно: Наксос – прыжок, Делос – прыжок и Микэн – до неба прыжок! Его веское тело так же не давило землю, как его веская дружба – души друзей. А по скалам он лазил, как самая отчаянная коза. Его широкая ступня в сандалии держалась на уступе скалы только на честном слове доверия к этой скале, единстве с этой скалой.
Еще особенность наших сказок: полное отсутствие уюта: страшные – скрызь. Макс же в быту был весь уют. И чувство, которое он вызывал даже в минуты гнева, был тот страх с улыбкой, сознание, что хорошо кончится, которое неизменно возбуждают в нас все гриммовские великаны и никогда не возбудит Кащей или другое какое родное чудовище. Ибо гнев Макса – как гнев божества и ребенка – мог неожиданно кончиться смехом – дугой радуги! Гнев же богатыря неизменно кончается ударом по башке, то есть смертью. Макс был сказка с хорошим концом. Про Макса, как про своего сына, – кстати, в детстве они очень похожи, – могу сказать, что:
…славянской скуки —
Ни тени в красоте твоей!
Позднеславянской, то есть интеллигентской.
Физика Макса была широкими воротами в его сущность, физическая обширность – только введением в обширность духовную, физический жар его толстого тела только излучением того светового и теплового очага духа, у которого все грелись, от которого все горели; вся физическая сказочность его – только входом и вводом в тот миф, который был им и которым он был.
Но этим Макс и сказка не исчерпаны. Это действующее лицо и место действия сказки было еще и сказочник: мифотворец. О, сказочник прежде всего. Не сказитель, а слагатель. Отношение его к людям было сплошное мифотворчество, то есть извлечение из человека основы и выведение ее на свет. Усиление основы за счет «условий», сужденности за счет случайности, судьбы за счет жизни. Героев Гомера мы потому видим, что они гомеричны. Мифотворчество: то, что быть могло и быть должно, обратно чеховщине: тому, что есть, а чего, по мне, вовсе и нет. Усиление основных черт в человеке вплоть до видения – Максом, человеком и нами – только их. Все остальное: мелкое, пришлое, случайное, отметалось. То есть тот же творческий принцип памяти, о которой, от того же Макса слышала: «La mеmoire a bon go?t»[21 - У памяти хороший вкус (фр.).], то есть несущественное, то есть девяносто сотых – забывает.
Макс о событиях рассказывал, как народ, а об отдельных людях, как о народах. Точность его живописания для меня всегда была вне сомнения, как несомненна точность всякого эпоса. Ахилл не может быть не таким, иначе он не Ахилл. В каждом из нас живет божественное мерило правды, только перед коей прегрешив, человек является лжецом. Мистификаторство, в иных устах, уже начало правды, когда же оно дорастает до мифотворчества, оно – вся правда. Так было у Макса в том же случае Черубины. Что не насущно – лишне. Так и получаются боги и герои. Только в Максиных рассказах люди и являлись похожими, более похожими, чем в жизни, где их встречаешь не так и не там, где встречаешь не их, где они просто сами-не-свои и – неузнаваемы. Помню из уст Макса такое слово маленькой девочки. (Девочка впервые была в зверинце и пишет письмо отцу):
– Видела льва – совсем не похож.
У Макса лев был всегда похож. Кстати, чтобы не забыть. У меня здесь, в Кламаре, на столе, на котором пишу, под чернильницей, из которой пишу, тарелка. Столы и чернильницы меняются, тарелка пребывает, вывезла ее в 1913 году из Феодосии и с тех пор не расставалась. В моих руках она стала еще на двадцать лет старше. Тарелка страшно тяжелая, фаянсовая, старинная, английская, с коричневым побелу бордюром из греческих героев и английских полководцев. В центре лицо, даже лик: лев. Собственно, весь лев, но от величины головы тело просто исчезло. Грива, переходящая в бороду, а из-под гривы маленькие белые сверла глаз. Этот лев самый похожий из всех портретов Макса. Этот лев – Макс, весь Макс, более Макс, чем Макс. На этот раз жизнь занялась мифотворчеством.
Один-единственный пример на живой мне. В первый же день приезда в Коктебель – о драгоценных камнях его побережья всякий знает – есть даже бухта такая: Сердоликовая, – в первый день приезда в Коктебель я Максу: «М. А., как вы думаете, вы могли бы отгадать, какой мой самый любимый камень на всем побережье?» И уже час спустя, сама о себе слышу: – «Мама! Ты знаешь, что мне заказала М. И.? Найти и принести ей ее любимый камень на всем побережье!» Ну, не лучше ли так и не больше ли я? Я была тот черновик, который Макс мгновенно выправил.
Острый глаз Макса на человека был собирательным стеклом, собирательным – значит зажигательным. Все, что было своего, то есть творческого, в человеке, разгоралось и разрасталось в посильный костер и сад. Ни одного человека Макс – знанием, опытом, дарованием – не задавил. Он, ненасытностью на настоящее, заставлял человека быть самим собой. «Когда мне нужен я – я ухожу, если я к тебе прихожу – значит, мне нужен ты». Хотела было написать «ненасытность на подлинное», но тут же вспомнила, даже ушами услышала: «Марина! Никогда не употребляй слово „подлинное“. – „Почему? Потому что похоже на подлое?“ – „Оно и есть подлое. Во-первых, не подлинное, а подлинное, подлинная правда, та правда, которая под линьками, а линьки – те ремни, которые палач вырезает из спины жертвы, добиваясь признания, лжепризнания. Подлинная правда – правда застенка“.
Все, чему меня Макс учил, я запомнила навсегда.
Итак, Макс, ненасытностью на настоящее, заставлял человека быть самим собой. Знаю, что для молодых поэтов, со своим, он был незаменим, как и для молодых поэтов – без своего. Помню, в самом начале знакомства, у Алексея Толстого литературный вечер. Читает какой-то титулованный гвардеец: луна, лодка, сирень, девушка… В ответ на это общее место – тяжкое общее молчание. И Макс вкрадчиво, точно голосом ступая по горячему: «У вас удивительно приятный баритон. Вы – поете?» – «Никак нет». – «Вам надо петь, вам непременно надо петь». Клянусь, что ни малейшей иронии в этих словах не было; баритону, действительно, надо петь.
А вот еще рассказ о поэтессе Марии Паппер.
– М. И., к вам еще не приходила Мария Паппер?
– Нет.
– Значит, придет. Она ко всем поэтам ходит: и к Ходасевичу, и к Борису Николаевичу, и к Брюсову.
– А кто это?
– Одна поэтесса. Самое отличительное: огромные, во всякое время года, калоши. Обыкновенные мужские калоши, а из калош на тоненькой шейке, как на спичке, огромные темные глаза, на ниточках, как у лягушки. Она всегда приходит с черного хода, еще до свету, и прямо на кухню. «Что вам угодно, барышня?» – «Я к барину». – «Барин еще спят». – «А я подожду». Семь часов, восемь часов, девять часов. Поэты, как вы знаете, встают поздно. Иногда кухарка, сжалившись: «Может, разбудить барина? Если дело ваше уж очень спешное, а то наш барин иногда только к часу выходят. А то и вовсе не встают». – «Нет, зачем, мне и так хорошо». Наконец кухарка, не вытерпев, докладывает: «К вам барышни одне, гимназистки или курсистки, с седьмого часа у меня на кухне сидят, дожидаются». – «Так чего ж ты, дура, в гостиную не провела?» – «Я было хотела, а оне: мне, мол, и здеся хорошо. Я их и чаем напоила – и сама пила, и им налила, обиды не было».
Наконец встречаются: «барин» и «барышня». Глядят: Ходасевич на Марию Паппер, Мария Паппер на Ходасевича. «С кем имею честь?» Мышиный голос, как-то всё на и: «А я – Мария Па-аппер». – «Чем могу служить?» – «А я стихи-и пи-ишу…»
И, неизвестно откуда, огромный портфель, департаментский. Ходасевич садится к столу, Мария Паппер на диван. Десять часов, одиннадцать часов, двенадцать часов. Мария Паппер читает. Ходасевич слушает. Слушает – как зачарованный! Но где-то внутри – пищевода или души, во всяком случае, в месте, для чесания недосягаемом, зуд. Зуд все растет, Мария Паппер все читает. Вдруг, первый зевок, из последних сил прыжок, хватаясь за часы: «Вы меня – извините – я очень занят – меня сейчас ждет издатель – а я – я сейчас жду приятеля». – «Так я пойду-у, я еще при-иду-у».
Освобожденный, внезапно поласковевший Ходасевич:
– У вас, конечно, есть данные, но надо больше работать над стихом…
– Я и так все время пи-ишу…
– Надо писать не все время, а надо писать иначе…
– А я могу и иначе… У меня есть…
Ходасевич, понимая, что ему грозит:
– Ну конечно, вы еще молоды и успеете… Нет, нет, вы не туда, позвольте я провожу вас с парадного…
Входная дверь защелкнута, хозяин блаженно выхрустывает суставы рук и ног, и вдруг – бурей – пронося над головой обутые руки – из кухни в переднюю – кухарка:
– Ба-арышни! Ба-арышни! Ай, беда-то какая! Калошки забыли!
…Вы знаете, М. И., не всегда так хорошо кончается, иногда ей эти калоши летят вслед… Иногда, особенно если с верхнего этажа, попадают прямо на голову, но на голову или на ноги, Ходасевич или (скромно) со мной тоже было – словом: неделю спустя сидит поэт, пишет сонет… «Барин, а барин?» – «Что тебе?» – «Там к вам одне барышни пришли, с семи часов дожидаются… Мы с ними уже два раза чайку попили… Всю мне свою жизнь рассказали… (Конфузливо.) Писательницы».
Так некоторых людей Макс возводил в ранг химер. Книжку ее мне Макс принес. Называлась «Парус». Из стихов помню одни:
Во мне кипит, бурлит волна
Горячей крови семитической,
Я вся дрожу, я вся полна
Заветной тайны эстетической.
Иду я вверх, иду я вниз.
Я слышу пенье разнотонное, —
Родной сестрой мне стала рысь,
А братом озеро бездонное.
И еще такое четверостишие:
Я великого, нежданного,
Невозможного прошу,
И одной струей желанного
Вечный мрамор орошу.
Сказка была у него на всякий случай жизни, сказкой он отвечал на любой вопрос. Вот одна, на какой-то – мой:
Жил-был юноша, царский сын. У него был воспитатель, который, полагая, что все зло в мире от женщины, решил ему не показывать ни одной до его совершеннолетия. («Ты, конечно, знаешь, Марина, что на Афоне нет ни одного животного женского пола, одни самцы».) И вот в день его шестнадцатилетия воспитатель, взяв его за руку, повел его по залам дворца, где были собраны все чудеса мира. В одной зале – все драгоценные ткани, в другой – всее оружие, в третьей – всее музыкальные инструменты, в четвертой – все драгоценные ткани, в пятой, шестой (ехидно) – и так до тридцатой – все изречения мудрецов в пергаментных свитках, а в тридцать первой – все редкостные растения и, наконец, в каком-то сотом зале – сидела женщина. «А это что?» – спросил царский сын своего воспитателя. «А это, – ответил воспитатель, – злые демоны, которые губят людей.
Осмотрев весь дворец со всеми его чудесами, к концу седьмого дня воспитатель спросил у юноши: «Так что же тебе, сын мой, из всего виденного больше всего понравилось?
– А, конечно, те злые демоны, которые губят людей!»