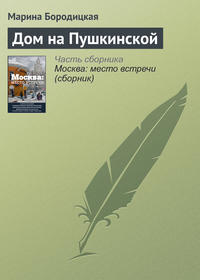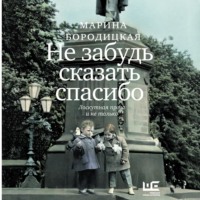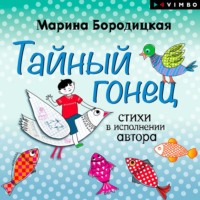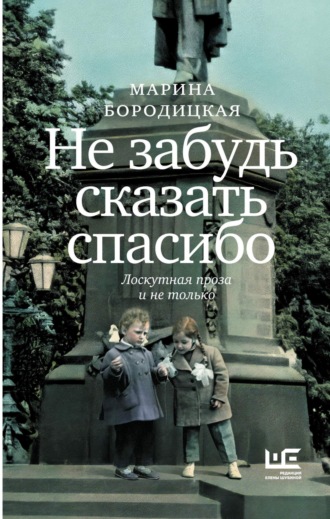
Не забудь сказать спасибо. Лоскутная проза и не только
Когда я была маленькой, у нас никаких животных в доме не было. Я и не просила: понимала, что в квартире тесно. Да и бабушку жалко было, она ужасно боялась микробов. Мама с папой и так для меня постарались: родили мне чудесную сестрёнку, с ней играть было ещё интереснее, чем с кошкой или собачкой.
Подружка
Нас с Маринкой Штейнберг иногда называют Марина чёрненькая и Марина беленькая. У Маринки серые глаза и светлые кудряшки, она худенькая и чудо какая хорошенькая. Похожа на своего папу, русоволосого и кудрявого красавца дядю Иосифа. Наших мам подружил Страстной бульвар, вместе гуляли с колясками – и вот теперь мы ходим в одну прогулочную группу и вообще почти везде ходим вместе и часто спрашиваем друг у друга:

Две Маринки, беленькая и чёрненькая.
– Кто твоя самая лучшая подружка?
– Ты!
– А моя – ты!
И вздыхаем с облегчением.
А то вдруг переглядываемся – и в нарушение всех бабушкиных запретов:
– Давай лизнёмся?
И кончиками высунутых языков тянемся друг к дружке и хохочем.
Вообще Марин в моём окружении довольно много. Мама уверяет, что она первая додумалась до такого замечательного имени, а все приятельницы и родня у неё собезьянничали. Подростком я, конечно, придумаю, что меня назвали в честь Цветаевой, но нет, она тут ни при чём, и популярную итальянскую песенку “Марина, Марина, Марина” только в пятьдесят девятом сочинили, а дело тут, скорее всего, в Марине Влади, она как раз весной пятьдесят четвёртого названа в Каннах лучшей молодой актрисой…
Маринкина мама тётя Наташа тоже симпатичная (хотя моя мама куда красивее), но когда мы у них дома играем, она кричит “полировка!” очень сердитым голосом. Зато Маринкина бабушка, Дебора Степановна, нигде не работает. Она полненькая, уютная, с гладкой чёрно-серебряной чёлкой, и она водит нас обеих на всякие ёлки и утренние спектакли. Именно Деборе Степановне я обязана первым в жизни настоящим театром, это пьеса “Когда часы пробили полночь”, у меня от неё на несколько дней захватывает дух, и я сама с собой играю в Веснушку и Трубочиста…
А с Маринкой мы почти всегда играем во врачей или медсестёр. Сидим на санках, закутанные по самые носы, меж двумя рядами мёрзлых кустиков на бульваре и ведём приём.
– Больной, – спрашивает Маринка, – вы что выбираете, операцию или уколы?
– А какие уколы? – плаксиво переспрашивает “больной”.
– Бо́льные! – не без лёгкого садизма сообщает “врач”.
Нередко в игре участвуют куклы. Диагнозы стараемся сочинять пострашней и поинтересней, в ход идёт всё когда-либо слышанное плюс фантазия. Один Маринкин диагноз, побивший все рекорды, я запомнила навсегда.
– Ей (кукле), – докладывает она вибрирующим от ужаса голосом, – уличный мальчишка… грязной палкой… запихнул вишнёвую косточку… прямо в аппендикс!
Маринка Штейнберг станет-таки врачом. Кажется, даже хирургом. К нашему окончанию школы никаких штейнбергов в московские мединституты брать не будут, но она начнёт с медучилища и добьётся своего.
Четвёртое лето
Это мой первый сознательный год. Нет, помню я себя и раньше, но как-то нерезко и отрывочно. А за пару месяцев до четырёхлетия начала вдруг чётко осознавать и себя, и мир вокруг, и свою от него отдельность – и связанность тоже.
Я просыпаюсь рано утром в своей деревянной кровати-клетке. Первым делом нужно узнать, есть ли сегодня солнце. Это очень важно, от этого многое зависит: разрешат ли раздеться до трусов, пойдём ли гулять подальше, будет ли купание. Надо приподняться, вытянуть шею и через окошко дотянуться взглядом до кроны дерева в конце тропинки, что ведёт к калитке. Если на листьях пляшут первые золотистые блики – значит, всё в порядке.
Этим летом мир упорядочен как никогда. Вокруг меня, чередуясь, кружатся планеты: мама, папа, дедушка, бабушка. И мой ближайший спутник – Нанака.
Мы снимаем дачу у дяди Сёмы: улица Фрезерная, станция Сорок второй километр. Дядя Сёма – это дедушкин двоюродный брат. Он сам с женой тётей Гиной живёт тут же, в соседнем домике с верандой, а с ними дочка тётя Жанна, её муж дядя Павлик, большой, добрый и рыжий (он приезжает по вечерам из города), и тоже рыженький годовалый Сашка.
Мама с тётей Жанной вместе были в эвакуации на Урале, там они какое-то время спали валетом на одном сундуке. И вместо кукол, которых не было, заворачивали и баюкали друг дружкины босые ноги. Но мне об этом расскажут позже.
Между нашим домиком и дяди-Сёминым – всегда темноватый, уставленный соснами, усыпанный коричневыми иголками пятачок с качелями и гамаком. А с другой стороны от нас, на соседнем участке, живёт Маринка Штейнберг с бабушкой. Там тоже сдавался домик – вот повезло так повезло!
Никаких кранов с водой на даче нет, у крыльца висит рукомойник, в хорошую погоду все умываются там. Если уронить мыло, оно потом делается шершавым от приставших песчинок. В плохую погоду – в доме, над тазиком. Воду приносят из колодца у калитки, говорят – колодец, но это скорее колонка. Надо сильно качать рычаг, и тогда по наклонному узкому жёлобу потечёт вода. Холодная, прозрачная! Жёлоб внизу оканчивается курносой закорючкой, на неё можно повесить ведро.
Готовят здесь на керосинке (мне нравится керосиновый запах) или на электроплитке; ко всему этому нам с Маринкой приближаться запрещено. Бедная Маринкина бабушка Дебора Степановна хлопочет по хозяйству одна, и поэтому гулять с нами чаще ходит Нанака.
Нанака помогает мне как следует завернуть куклу Янку, чтобы ветром не продуло. С неодобрением смотрит на Маринкиного пупса, он в одной распашонке – но нам некогда, мы спешим на брёвнышки.
Если пройти по нашей улице налево до конца и ещё немного – будет лесная опушка, а на ней недостроенный дом. Стены бревенчатые стоят, окна прорезаны, а внутри трава. И груда брёвен перед входом – толстых, гладких, и дачники, и местные любят на них сидеть. Малышня возится с игрушками или щепками, ребята постарше играют в прятки. Через лето, когда мне исполнится шесть, меня тоже примут в игру и будут безбожно “заваживать”. Это когда человеку не дают никого застукать, только пойдёшь искать – кто-то шустрый выскакивает из-за угла и кричит: “Палочка-выручалочка за всех!” И приходится всё время водить.
До сих пор в ушах насмешливый голос большого мальчишки:
– Заваживание Маринки идёт полным ходом!
А я и рада, мне совершенно всё равно, водить или прятаться, главное – играть, причём со старшими. Процесс, а не результат. Но это когда ещё будет… а пока мы с Маринкой рвём одуванчики (стиснутый в кулаке букет – как большущая золотая хризантема), и Нанака плетёт нам венки.
В день моего рождения, двадцать восьмого июня, сияющая Дебора Степановна выходит на крыльцо с двумя одинаковыми передниками в руках. Мне и Маринке! Они голубые, с яркими крупными цветами – то ли рисунок на ткани, то ли аппликация, теперь уж не помню. В магазине такую красоту не купишь, это она где-то заказала. Погода стоит жаркая, и мы нацепляем обновки прямо на трусы. И отправляемся гулять вдоль тихой, травянистой по краям Фрезерной улицы. Не спеша идём мимо чужих заборов: смотрит кто-нибудь или нет? Маринка, завидев малознакомого дядьку, кричит, показывая на меня:
– Сегодня ей четыре года! Мы обе в фартучках!
Нас поздравляют.
Никаких речек поблизости нет, Кратовское озеро далековато и грязновато, и в жаркие дни на траву у дорожки выставляется жестяная ванночка. Вода в ней долго греется на солнце – именно на солнце, это рекомендация “самой Знаменской”, дорогого частного врача, – потом в неё доливают чуть-чуть кипятка, и пожалуйста, можно залезать. Вот он, верх роскоши: плескаться в прохладной воде, на вольном воздухе, под открытым небом, посреди Вселенной…
Доктора Знаменскую, страшноватую авторитарную тётку, мы через двадцать лет по настоянию мамы вызовем к диатезному младенцу Андрюше. И сравним сохранившиеся мамины (про меня) записи под её командирскую диктовку – с моими, про Андрюшку. На смену безраздельно властвовавшей манной каше придёт не менее категоричная гречка, антибиотики из закадычных друзей превратятся во врагов, но “солнечная вода” останется в силе.
На брёвнышках становится жарко, и мы с Нанакой ходим в ближайший лесок собирать цветы. Нанака – хранитель и дух этого лета, она даёт цветам имена. Это с её голоса я запоминаю: ромашка, клевер, колокольчик, а эти крошечные оборки над узкогорлым зелёным кувшинчиком – гвоздика.
На закате мы ходим “к шоссейке” встречать маму или папу, они иногда приезжают от станции на попутке. Вообще машин здесь немного, а пологий травянистый склон забрызган белой кашкой. Если сорвать метёлочку травы и двумя сжатыми пальцами провести по ней снизу вверх, получится “петушок” или “курочка”. И всё это живёт под самым носом, так близко от глаз, даже нагибаться не приходится.
Так уже не будет никогда.
Слова
– Па-ап, мне скучно! – Сейчас приглашу симфонический оркестр. Папа, наверно, и правда может позвать к нам оркестр, он же там работает, играет на скрипке. Но никакой оркестр моей тоски не разгонит. Потому что оркестр – это музыка без слов, а мне нужны слова, слова, слова…
Душа моя изнывает без новой, ещё не читанной книжки. У меня, если хотите, ломка (хотя такого слова я – тогдашняя – не знаю).
Усаженная за пианино, я торопливо листаю толстенький альбом с пьесками для начинающих (на жёлтой картонной обложке – противный серый мальчик в профиль, за роялем). Там иногда попадаются песенки со словами! Слова разделены на кусочки и напечатаны под нотами. Некоторые, приятно-ритмичные и не совсем понятные, перечитываю по нескольку раз. “Па-то-ка с им-би-рём, ва-рил дя-дя Си-ме-он. Тёт-ка А-ри-на ку-ша-ла, хва-ли-ла…” Жалко, что так мало.
Добрейшая, терпеливейшая Ревекка Соломоновна, которая приходит к нам домой и занимается со мной на фортепьяно (потом уже я начну ходить к ней в музыкальную школу), всего раз вышла из себя и по-настоящему на меня прикрикнула. В разгар её объяснений я воровато пролистала нотный альбом вперёд и любовалась картинкой с пляшущими в кружок под душем детьми и подписью в целых две строки:
Льётся тёплая водица,Мы умеем сами мыться!Мне было очень стыдно, что я рассердила свою первую учительницу. И главное, из-за такой ерунды! Я же сразу поняла, что стишки – дурацкие. Вот если бы попалось что-нибудь сто́ящее…
* * *Вдруг вспомнилось словечко из детства: эксно́стрис. Его часто употребляли бабушка с дедушкой: “Он экснострис? – Разумеется”.
Я: “Бабуля, что такое экснострис?”
Бабушка Вера: “М-м… Умный человек”.
И усмехалась ангельским своим, голубиным смешком, когда я рассказывала про кого-то из класса – кажется, Олю Никифорову, – что она “ужасно умная, прямо настоящий экснострис”.
Много позже, уже учась в Инязе, я наконец-то сообразила: ex nostris – по-латыни “из наших”. Еврей, стало быть.
Вот и латынь пригодилась.
* * *И ещё два бабушкиных-дедушкиных слова, очень важных и совершенно точно французских: пурляпти и пурлягран. Уж не знаю, в семье ли у бабушки так деликатничали, или она этому в гимназии научилась, а дед подхватил, – но словечки эти удобно заменяли “по-маленькому” и “по-большому”. Можно было, не смущая ребёнка перед сверстниками, спросить, например, на бульваре: “Пурляпти не хочешь?”
Вообще-то по-французски это три отдельных слова, pour le petit, и посерёдке не “ля”, а “лё”, но так уж оно в семейном обиходе пообмялось. Дед изобрёл даже глагол – “пурляптикнуть”.
Студенткой я прочла “Другие берега” Набокова (соседка Ольга Григорьевна одолжила самиздат) и узнала, что в их англофильском семействе в ходу были обозначения “number one” и “number two”. Номер один и номер два. Ну и чем мы, спрашивается, хуже?
Многочисленные русские синонимы этих замечательных слов – и дворовые и пионерлагерные – я с тех пор изучила досконально. Со всеми лексическими гнёздами. Но вслух произносить всё равно не люблю, неприятно как-то. Бабушка бы поморщилась.
* * *А папина скороговорка про трёх китайцев? Чуть не забыла! Это ведь не простая была скороговорка, не какая-нибудь “Шла Саша по шоссе”, а целый связный рассказ, там и сюжет имелся, и счастливая концовка.
Жили-были три китайца: Як, Як-Цидрак и Як-Цидрак-Цидрони.
И были у них три подружки: Цыпка, Цыпка-Дрипка и Цыпка-Дрипка-Дрипопони.
И вот они женились: Як на Цыпке, Як-Цидрак на Цыпке-Дрипке, а Як-Цидрак-Цидрони – на Цыпке-Дрипке-Дрипопони.
Откуда они взялись, эти таинственные китайцы с какими-то не совсем китайскими именами? Бог весть. Но я, оттарабанив знакомый текст, каждый раз ужасно радовалась, что они вот так удачно все нашли друг друга и никто ничего не перепутал.
Казалось, в мире царит гармония…
* * *Ещё словцо вынырнуло вдруг из памяти: мазилка. Так называлась толченая с сахаром чёрная смородина, комковатая и густо-фиолетовая. Она хранилась, подсыхая, в стеклянной банке.
– Мазилку будешь?
И пара чайных ложек вязкой шероховатой зернистой массы шлёпалась в стакан, доливалась кипячёной водой, разбалтывалась – получалось что-то вроде компота. В ярко-фиолетовой воде плавали смородиновые шкурки. Было вкусно и наверняка полезно, хотя почему-то мазилка считалась скучным десертом…
Кто её готовил? Мыл ягоды, перебирал, толок? У нас почти никаких домашних заготовок не делали, мама с бабушкой терпеть не могли этой возни, но витамины для ребёнка – святое дело. Наверное, Нана-ка, Настя, няня…
Вместе спать
Где-то между пятью и шестью годами на меня напала бессонница. Никак не получалось уснуть. Мешал, во-первых, страх: а вдруг все в доме уже заснут, а я ещё не успею и останусь совсем одна? А во-вторых, мне зачем-то нужно было понять сам механизм засыпания. Ухватить момент: ну как это, как? Вот есть человек – и вот его до утра как будто нету?
Момент не ухватывался, выскальзывал, и я, укладываясь, изводила домашних одним и тем же вопросом:
– А я успею уснуть?
Успеешь, говорили мне, мы ещё не скоро ляжем…
Считать “до ста” не помогало, счёт меня только взбадривал.
– Ты просто закрой глаза, – советовал папа, – и ни о чём не думай.
Час от часу не легче. Как это можно ни о чём не думать?
– Тогда я буду думать, что я ни о чём не думаю, это всё равно же получается думанье, – барахталась я в неизведанных водах философии. От которой – с тех самых, кажется, пор – стараюсь держаться подальше.
Я пыталась решить проблему простым, но постыдным для “такой большой девочки” способом. Просилась, а то и без спросу лезла в родительскую постель. Мама сердилась, она вообще в то время была раздражительная (и хоть бы кто-нибудь мне объяснил, что она беременна Танькой!). Бабушка грозила пальцем и своим любимым словечком: “негигиенично!” Папа… ну да, именно папа сделал тогда поистине блестящий, спасительный ход.
– Понимаешь, – сказал он, – мы же всё равно будем вместе спать.
Это означало: даже когда мы ненадолго разойдёмся каждый в свою кровать, в свой сон, в своё отдельное забытьё, мы всё равно будем думать друг о друге, помнить друг про друга и каким-то чудесным образом поддерживать связь. Уж не знаю, как он сумел меня в этом убедить, но заклинание подействовало.
Теперь, отправляясь вечером к себе за шкаф, я неизменно спрашивала:
– А мы будем вместе спать?
– Ну конечно, – заверял меня папа, если был дома. А если он ещё не вернулся с концерта или записи, я задавала другой вопрос:
– А папа скоро придёт?
И услышав, что скоро, и сказав с десяток раз всем “спокойной ночи”, храбро удалялась в ночное изгнание.
Примерно тогда же я каким-то образом догадалась или додумалась про смерть. В сказках она встречалась не так уж редко, а ещё у моей закадычной подружки Маринки Штейнберг умер дедушка, и мы с ней это обсуждали. Оказалось, кроме “умереть” есть ещё глагол “сдохнуть”, но так говорить можно только про очень плохих людей, например про Сталина.

Дедушка и бабушка. 1976.
Не помню как, но до меня наконец дошло, что “умереть” – это про всех, а значит, и про нашу семью, да и про меня тоже.
– Лёгкая смерть: заснул и не проснулся, – сказал (разумеется, не мне) о ком-то папа…
Он же и вытащил меня из бездны ужаса. Всё просто: до того, как я вырасту, а родители слегка постареют, пройдёт ещё много времени, и учёные успеют изобрести такое лекарство, чтобы люди не старели и не умирали. Они, учёные, уже над этим работают.
Наверное, многие родители так успокаивают детей. Много лет спустя читаю у Берестова:
…Вечной страшась разлуки, Верил во власть науки. Жить и учёным охота, Кто-то придумает что-то.Я всё-таки волновалась: изобретут ли? Успеют ли? И довольно часто переспрашивала:
– Пап, а правда же, учёные…
– Правда, правда, – подтверждал папа.
Тьмы низких истин нам, как известно, дороже нас возвышающий обман. А обман утешающий – тем более.
Да и какой тут обман? Просто учёные подкачали.
Эликсир жизни
Дед Наум вышел на пенсию ещё молодым и крепким, в шестьдесят с небольшим. У нас тогда родилась Танька, и на меня не хватало рук: гуляние, музыкальная школа, потом первый класс общеобразовательной (туда – папа, обратно – почти всегда дедушка). Да и по хозяйству нужна была помощь: магазины, очереди, молочная кухня… Позже я как-то услышала (мама с бабушкой говорили), будто и дедово начальство радо-радёшенько было проводить его на пенсию. Инженер, что называется, от бога, проектировщик (придумал, как сделать лифт у нас в доме, а все говорили – невозможно) и просто на все руки мастер – характером дед обладал отнюдь не сахарным, чуть что не так – вспыхивал и орал, для убедительности разделяя слова на слоги:
– Я! ска! зал!..
Или:
– В чём! я! ви! но! ват?!
Вообще-то у нас в семье разговоры на повышенных тонах и такие, скажем, средиземноморские интонации не были редкостью. Так что я привыкла. Как бы там ни было, дед взял на себя старшую внучку, то есть меня, – в большой степени и снабжение семьи продуктами – целиком и полностью.
До сих пор помню, как вкусно пахло в Елисеевском магазине: сыром, колбасой, чем-то копчёным… Это был ближайший от нас “гастроном”, а булочная – Филипповская. Иногда меня ставили в очередь – в кассу или к прилавку, а иногда, вместо гуляния, оставляли дышать воздухом у входа в магазин. И в награду за долгое и тоскливое ожидание дед по дороге домой рассказывал мне очередную историю “про Кольку”. Начинались эти истории всегда с одной и той же фразы: “Иду я по улице, смотрю – толпа!” Толпа собиралась вокруг незадачливого Кольки, который вечно попадал в какие-то передряги. То он заблудился, то чужое пальто надел в школьной раздевалке… Как же мне жаль теперь, что почти ничего не помню из этих мимолётных – специально для меня – импровизаций!
Вообще “словесная” жилка у деда Наума имелась несомненно, и маме передалась тоже от него. Он писал нам из больницы смешные рифмованные письма: “Доктор очень меня лечит – Может быть, не искалечит…”, сочинял всякие забавные словечки, мог, например, спросить, если я привередничала за едой:
– Может, подать тебе жареного черебобика?
А то вдруг спросит, что вкусней, сустрепенчик или апельсин.
Дед завёл специальную светло-жёлтую тетрадку и, аккуратно макая перо в чернильницу, каллиграфическим почерком опытного чертёжника вписывал туда мои первые дурацкие стишки: “Солнце вышло из-за туч, и пробился первый луч. Засветило ярко, людям стало жарко…”, ну и всякое такое. Кстати, в школе он за меня и черчение делал, и строчил на старой ножной машинке заданные по труду передник или ночную рубашку…
Интересно, почему дед назвал своего “героя” Колькой? Может, из-за фильма “Друг мой, Колька”, одного из первых оттепельных “про школьную жизнь”. А может, потому, что его самого иногда коллеги и соседи называли Николаем, и ему это, кажется, нравилось. Для родных дедушка был Наум, по паспорту – Ниссон, а там и до Николая рукой подать.
Идём с ним по Страстному бульвару, и вдруг он как пустится бегом! Крикнет только мне: “Догоняй!” Бегать я не любила, быстро задыхалась, и деда это очень огорчало. Дома он заставлял меня “боксировать”, лупя кулаками в его напряжённый живот, и делать “уголок” для брюшного пресса, то есть поднимать ноги под прямым углом, опираясь одной рукой на подоконник, другой на спинку кровати. Пресс у меня и впрямь укрепился так здорово, что в институте я сдавала нормативы “лёг – сел” с заведёнными под скамейку ногами и закинутыми за голову руками “за себя и за того парня” (точней, за ту хилую однокурсницу). А позже, рожая первого сына, поминала деда добрым, хоть и не очень тихим словом.
Чуть не забыла: бокс был дедушкиной страстью. Лет в шестнадцать-семнадцать в дореволюционном Питере он соглашался на роль “учебной груши” для отработки ударов – лишь бы пустили бесплатно на занятия.
А кстати, в мои шесть лет на фигурное катание водил меня ведь тоже дед! На каток “Динамо” на Петровке. Мою подружку Маринку Штейнберг приводила бабушка, а меня дед. В перерыве, когда нас запускали в раздевалку погреться, он доставал из кармана не какое-нибудь там яблоко, а тщательно завёрнутый вкусный бутерброд. С “докторской” колбасой, а то и с икрой. Я обожала покушать и являла собой этакий совершенно не грациозный маленький бомбовоз. Зато благодаря дедовым “уголкам” у меня неплохо получался “пистолетик” (проезд-приседание на одном коньке, вторая нога торчит вперёд перпендикулярно). А за “пистолетик” полагалась награда: прокатиться у тренера на руках!
Нелюбимые яблоки тоже шли в дело: дед иногда притаскивал их на бульвар почищенными и порезанными на кусочки. В стеклянной банке! И ловко совал мне в рот, чтоб не прикасалась грязными руками.
Когда я уже училась в средней школе, дед купил одну из первых советских электрических соковыжималок. Радовался ей, как ребёнок игрушке, собирал-разбирал, экспериментировал. Чистить и мыть её после отжима было ужасно хлопотно, но деда это не смущало. Придёшь, бывало, из школы – и прямо с порога тебе торжественно вручается огромная кружка чего-то буро-пенистого, яблочно-морковного:
– Пей! Это – эликсир жизни!
Дед вышел на пенсию, а бабушка долго ещё работала в своей женской консультации на Кутузовском. И каждый раз перед утренним приёмом дед поднимался по будильнику и готовил ей завтрак. Индийский растворимый кофе с молоком (никакой особой кофейно-варочной культуры у нас в доме не наблюдалось, и джезвы тогда ещё не было). Широкий, но тонко отрезанный ломоть полукруглого светло-коричневого “столичного” хлеба намазывался маслом (слегка!), сверху укладывался сыр, и всё это нарезалось аккуратными поперечными “солдатиками”, чтоб удобно было есть.
Такую же фразу про хлеб или бутерброд – “нарезать солдатиками” – я потом встречала и в английском, и во французском (французы своих “солдатиков” обмакивают в яйцо, сваренное всмятку). В немецком тоже наверняка есть эти съедобные солдатики. Интересно, откуда они взялись?
Электрическая соковыжималка давно сломалась. А старая, механическая дедушкина – с рубчатым прессом и дырчатой вставкой, с двумя ручками, верхней и нижней, которые нужно изо всей силы прижимать друг к дружке, – хранится у меня до сих пор. Вместе с остатками каменного письменного прибора, где красноватая обезьяна цепляется за горшок-карандашницу, а за обезьяну – черепаха и какая-то птица. Вместе с побитыми пузатенькими буддами, китайским лаковым подносом, подбородником с папиной скрипки и бабушкиным деревянным стетоскопом, которым она оба раза выслушивала мой беременный живот. И говорила с ангельской своей улыбкой:

Женя (ещё не мама). 1949.
– Никто этого знать, конечно, не может, но по сердцебиению – скорее девочка.
И ещё где-то спрятан – надо поискать хорошенько – маленький, с грецкий орех, серебряный корпус от карманных часов. В виде черепа с латинской надписью:
Fugit irreparabile tempus.
Звуки
Если (о, счастье!) мама уходила из дома на то время, что мне полагалось просидеть за пианино, на пюпитре тотчас возникала книжка. Зачитавшись, я забывала даже профилактически побрякивать по клавишам одной рукой. Тогда сестрёнкина няня, юная Тамарочка, кричала из кухни маминым голосом:
– Не слышу звуков!
Этот окрик, от которого я вздрагивала всё детство, трагедийный – в мамином исполнении, комический – в Томкином… Я только сейчас узнала, что Блок, перестав за три года до смерти писать стихи, говорил: “Я больше не слышу звуков”.
Буханка
Хлеб из Филипповской булочной – батоны по тринадцать копеек (это уже в шестидесятые, конечно) и круглый “обдирный” (он теперь “столичным” называется) – бабушка и дедушка всегда обжаривали над огнём. Доставали из продуктовой сумки или бумажного пакета, насаживали на вилку и несколько секунд поворачивали туда-сюда над горящей газовой конфоркой. Делалось это, чтобы убить микробы: ведь никаких целлофановых обёрток тогда не было и батоны, караваи, буханки лежали на полках просто так. Продавцы брали их руками – тоже прямо так, без перчаток – и протягивали покупателям. В Филипповской деньги принимал не продавец, а кассир, но в магазинах попроще и деньги, и хлеб нередко проходили через одни и те же руки.