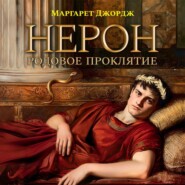По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Нерон. Родовое проклятие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
XVIII
И с того дня моя жизнь стала похожа на сон. В том сне я видел все происходящее вокруг, но меня оно ничуть не волновало или вовсе казалось нереальным. Похороны Криспа, кремация, упокоение его праха в фамильной гробнице… Мать изображала скорбь – говорила вполголоса и ходила в черном. Я принимал участие в атлетических состязаниях, но результат меня не заботил; мои ноги стали совсем вялыми. Уроки с Аникетом и Бериллом тоже продолжались, но я плохо усваивал знания, которыми они со мной делились, и почти ничего не запоминал. А гонки колесниц… Гонки, на которых я так мечтал побывать… Я стал к ним безразличен и, когда Клавдий пригласил нас наблюдать за ними с балкона своего дворца, сказался больным. Мать злилась, но не могла доказать, что я здоров, потому что я лежал плашмя на кровати, ни на что не реагировал, и это полностью соответствовало моей легенде. Как же хорошо было просто лежать, ни о чем не беспокоиться, не испытывать никаких желаний и ничего не чувствовать. Не прикладывая никаких усилий, я достиг состояния, к которому стремятся некоторые философы, – отрешенности от окружающего мира.
Но потом постепенно через защитный барьер из пустоты и забытья, каким я себя окружил, в голову начали просачиваться разные мысли – мысли, без которых мне было бы гораздо легче жить дальше. Они приходили по ночам, когда тишину нарушали только крики сов с окружавших виллу деревьев и глухое бурчание колес повозок, что проезжали по Риму на другом берегу Тибра. Сначала эти мысли подкрадывались тихо, словно плеск набегавших на мои сны волн. Во сне стала появляться мать, ее лицо приближалось ко мне, она целовала меня… А потом вдруг ее лицо превращалось в череп, и я просыпался в холодном поту.
Моя мать – убийца. Она хладнокровно убила своего мужа. Кто станет ее следующей жертвой? Кого еще она убила, когда я не был случайным свидетелем ее преступления? Моего отца? Нет, тогда она была слишком далеко, на острове, и не дотянулась бы до него. Но она ведь могла нанять эту женщину, Локусту?
Я лежал без сна в темноте своей комнаты, и мысли становились все отчетливее и смелее. Вот она – страшная правда: я происхожу из рода убийц. Калигула пытался убить меня. Мессалина пыталась убить меня. Ходили слухи, что Калигула убил Тиберия – удавил подушкой. А смерть Германика? Ее причины остались под вопросом, отравление не исключалось, как и то, что за этим стоял Тиберий.
Во мне течет кровь убийц. Означает ли это, что во мне живет убийца, желающий вырваться на свободу?
Однажды во время одного из уроков я осторожно поднял эту тему.
– Склонность к убийству не передается по наследству, – заверил меня Аникет. – Такое бывает только в греческих трагедиях.
Но дело в том, что я будто жил внутри греческой трагедии. Да и сюжеты этих трагедий наверняка основывались на реальных историях.
А потом ко мне начали приходить и вовсе страшные мысли. Она меня убьет? И в ответ я твердил себе: «Нет, нет, нет – матери никогда не убивают своих детей».
Тут я вспоминал о Медее. Но это же миф, греческий миф, такого не было по-настоящему…
Постепенно все эти мысли ослабили хватку – так всегда случается раньше или позже. Я научился жить с новым знанием; люди ко всему привыкают, даже к страху – страх становится для них обыденностью. Понимание, что я по крови своей убийца, блекло на фоне мысли о том, что моя мать – а она точно была убийцей – может погубить меня.
Так мы принимаем себя со всеми слабостями, потому что должны сосредоточиться на ком-то, чьи пороки гораздо серьезнее наших недостатков и кто может стать для нас настоящей угрозой.
* * *
Я рос, один день рождения сменял другой. Когда мне было девять, Клавдий в честь восьмисотлетия основания Рима устроил терентинские игры. В их число входили троянские – традиционные показательные конные выступления мальчиков, слишком юных, чтобы стать солдатами, но достаточно взрослых, чтобы ездить верхом. В качестве участников выбрали нас с Британником, и мать постоянно об этом говорила.
– Твое первое появление на публике, – твердила она. – Нам нужно постараться, чтобы все прошло успешно.
– Нам? – переспросил я. – Ты поедешь верхом рядом со мной?
– Не дерзи, просто слушай, что тебе говорят. Участие в играх – хорошая возможность продемонстрировать твое благородное происхождение. Искусство верховой езды традиционно является частью образования принца, но сейчас принцев нет… за исключением тебя…
– И Британника, – напомнил я.
– Да, еще Британник. Но ему всего шесть, он слишком мал, чтобы хорошо смотреться на большой лошади.
Я в ответ только пожал плечами. Мне было все равно, и я позволил матери нарядить меня так, как ей того хотелось. Я должен был подстраиваться под все ее желания.
Троянские игры – это ритуальное зрелище, требующее определенного мастерства в езде верхом, и я к этому времени уже неплохо им овладел. А вот маленький Британник, по моему мнению, вообще не должен был участвовать и ожидаемо выступил неудачно. Ну а мой выход неоднократно вызывал шквал аплодисментов. Так мне сказали. Я правил лошадью, но мысленно был далеко и ничего не замечал, хотя мое тело исправно выполняло все нужные движения.
Мать ликовала, Мессалина была мрачнее тучи. Я понимал, что ненависть Мессалины перевешивает одобрение матери – по крайней мере, в том, что касалось моей безопасности.
– Вас было просто не сравнить, – злорадствовала мать. – Ты – отрок, который вот-вот превратится в мужчину, и он – неловкий ребенок. Публика это увидела, поняла и выбрала тебя.
Та же самая публика в один день на гонках колесниц болела за команду зеленых, а в следующий – за синих. Я не доверял толпе, но выполнил свой долг и теперь хотел одного – уйти к себе в комнату и снова погрузиться в свой мир.
– Клавдий прислал тебе подарок в память об этих играх. – Мать протянула мне маленькое золотое кольцо с инталией[23 - Инталия – разновидность геммы, углубленное резное изображение на камне.] из сердолика; на ней был изображен юноша верхом на лошади. – И он сказал, что гордится тобой.
Я подумал, что это довольно щедро с его стороны, и надел кольцо на мизинец. Причем, на удивление, очень надеялся, что кольцо будет впору. Так и оказалось.
– И еще сказал, что оно принадлежало Германику, когда тот был ребенком.
– Он очень добр, я буду дорожить кольцом.
– Твой дед был бы доволен.
Теперь мне действительно надо было скорее уйти к себе – я чувствовал, что могу расплакаться, хотя сам не понимал почему.
* * *
Год тянулся, как тяжелая повозка по заранее проложенному пути. Ветреная, дождливая весна уступила дорогу сухому пыльному лету, на смену лету пришла золотая осень, и вслед за ней – колючая зима с дождем и снегом. А вместе с зимой наступил и мой десятый день рождения.
– Ты выбрал худшее время года, чтобы появиться на свет, – недовольным тоном заметила мать.
– Вообще-то, ты его выбрала, от меня тут ничего не зависело, – напомнил я. – И потом, погода сейчас, может, и плохая, но лучше времени для дня рождения не придумаешь. Мой приходится на сатурналии[24 - Сатурналии – декабрьский праздник в честь бога Сатурна; первоначально отмечался 17 декабря, позднее торжества были продлены до 23 декабря.].
По мне, так лучше бы сатурналии продолжались весь год, а не одну короткую неделю. Празднества начинались с жертвоприношений у храма Сатурна на Форуме, потом с ног статуи снимали шерстяные обмотки, что символизировало избавление от ограничивающих нас обычаев. На эти несколько дней в году все переворачивалось с ног на голову: вместо тог облачались в свободные греческие одежды, рабы менялись местами со своими господами, все и каждый могли свободно говорить все, что придет в голову. Некоторые люди переодевались так, что их было не узнать, и в таком виде бродили по городу; другие принимали гостей и обменивались подарками; вино лилось рекой, пьянство не возбранялось.
Но меня не трогало разрешение напиваться до бесчувствия; возможность пересекать установленные границы и вырываться на свободу – вот что вызывало у меня неподдельный интерес. Постепенно я начал видеть во всем этом некую значимую связь с началом своего жизненного пути.
– Это опасное время, – сказала мать. – Люди притворяются теми, кем не являются…
– Или перестают притворяться, – заметил я.
* * *
После короткой недели сатурналий год скатился в прежнюю колею с ее нудным ритмом.
Однажды в ту пору, когда на деревьях появляются новые листья, а старые с осени еще лежат вокруг их стволов, я подумал: «Зачем им, деревьям, вообще это нужно? Столько усилий уходит на то, чтобы листья проклюнулись из почек и расправились, и ведь очень скоро они все равно опадут и пожухнут».
Вот такими вопросами я задавался от скуки. Но осенью моя скука была развеяна самым неожиданным и скандальным образом, одно-единственное событие изменило течение наших жизней. И это было выставленное напоказ безрассудство и даже безумие Мессалины.
После сатурналий и своего десятого дня рождения я по-прежнему вел уединенный образ жизни и ничего не знал о любовниках Мессалины. Как, впрочем, и Клавдий. А весь Рим знал. Пока Клавдий в Остии инспектировал строительство своей новой гавани, его супруга устроила публичную «церемонию бракосочетания» со своим последним любовником и новым консулом Гаем Силием.
– Самый красивый мужчина Рима, – с издевкой в голосе сказала мать. – Глупее не придумаешь.
Гай Силий… Крисп представил мне его на гонках колесниц! Я тогда еще подумал, что он похож на Александра Великого.
– О ком ты? – спросил я.
– О них обоих, – улыбнулась мать, – их обоих казнили.
– Что? Мессалину казнили?
Клавдий казнил собственную жену?
И с того дня моя жизнь стала похожа на сон. В том сне я видел все происходящее вокруг, но меня оно ничуть не волновало или вовсе казалось нереальным. Похороны Криспа, кремация, упокоение его праха в фамильной гробнице… Мать изображала скорбь – говорила вполголоса и ходила в черном. Я принимал участие в атлетических состязаниях, но результат меня не заботил; мои ноги стали совсем вялыми. Уроки с Аникетом и Бериллом тоже продолжались, но я плохо усваивал знания, которыми они со мной делились, и почти ничего не запоминал. А гонки колесниц… Гонки, на которых я так мечтал побывать… Я стал к ним безразличен и, когда Клавдий пригласил нас наблюдать за ними с балкона своего дворца, сказался больным. Мать злилась, но не могла доказать, что я здоров, потому что я лежал плашмя на кровати, ни на что не реагировал, и это полностью соответствовало моей легенде. Как же хорошо было просто лежать, ни о чем не беспокоиться, не испытывать никаких желаний и ничего не чувствовать. Не прикладывая никаких усилий, я достиг состояния, к которому стремятся некоторые философы, – отрешенности от окружающего мира.
Но потом постепенно через защитный барьер из пустоты и забытья, каким я себя окружил, в голову начали просачиваться разные мысли – мысли, без которых мне было бы гораздо легче жить дальше. Они приходили по ночам, когда тишину нарушали только крики сов с окружавших виллу деревьев и глухое бурчание колес повозок, что проезжали по Риму на другом берегу Тибра. Сначала эти мысли подкрадывались тихо, словно плеск набегавших на мои сны волн. Во сне стала появляться мать, ее лицо приближалось ко мне, она целовала меня… А потом вдруг ее лицо превращалось в череп, и я просыпался в холодном поту.
Моя мать – убийца. Она хладнокровно убила своего мужа. Кто станет ее следующей жертвой? Кого еще она убила, когда я не был случайным свидетелем ее преступления? Моего отца? Нет, тогда она была слишком далеко, на острове, и не дотянулась бы до него. Но она ведь могла нанять эту женщину, Локусту?
Я лежал без сна в темноте своей комнаты, и мысли становились все отчетливее и смелее. Вот она – страшная правда: я происхожу из рода убийц. Калигула пытался убить меня. Мессалина пыталась убить меня. Ходили слухи, что Калигула убил Тиберия – удавил подушкой. А смерть Германика? Ее причины остались под вопросом, отравление не исключалось, как и то, что за этим стоял Тиберий.
Во мне течет кровь убийц. Означает ли это, что во мне живет убийца, желающий вырваться на свободу?
Однажды во время одного из уроков я осторожно поднял эту тему.
– Склонность к убийству не передается по наследству, – заверил меня Аникет. – Такое бывает только в греческих трагедиях.
Но дело в том, что я будто жил внутри греческой трагедии. Да и сюжеты этих трагедий наверняка основывались на реальных историях.
А потом ко мне начали приходить и вовсе страшные мысли. Она меня убьет? И в ответ я твердил себе: «Нет, нет, нет – матери никогда не убивают своих детей».
Тут я вспоминал о Медее. Но это же миф, греческий миф, такого не было по-настоящему…
Постепенно все эти мысли ослабили хватку – так всегда случается раньше или позже. Я научился жить с новым знанием; люди ко всему привыкают, даже к страху – страх становится для них обыденностью. Понимание, что я по крови своей убийца, блекло на фоне мысли о том, что моя мать – а она точно была убийцей – может погубить меня.
Так мы принимаем себя со всеми слабостями, потому что должны сосредоточиться на ком-то, чьи пороки гораздо серьезнее наших недостатков и кто может стать для нас настоящей угрозой.
* * *
Я рос, один день рождения сменял другой. Когда мне было девять, Клавдий в честь восьмисотлетия основания Рима устроил терентинские игры. В их число входили троянские – традиционные показательные конные выступления мальчиков, слишком юных, чтобы стать солдатами, но достаточно взрослых, чтобы ездить верхом. В качестве участников выбрали нас с Британником, и мать постоянно об этом говорила.
– Твое первое появление на публике, – твердила она. – Нам нужно постараться, чтобы все прошло успешно.
– Нам? – переспросил я. – Ты поедешь верхом рядом со мной?
– Не дерзи, просто слушай, что тебе говорят. Участие в играх – хорошая возможность продемонстрировать твое благородное происхождение. Искусство верховой езды традиционно является частью образования принца, но сейчас принцев нет… за исключением тебя…
– И Британника, – напомнил я.
– Да, еще Британник. Но ему всего шесть, он слишком мал, чтобы хорошо смотреться на большой лошади.
Я в ответ только пожал плечами. Мне было все равно, и я позволил матери нарядить меня так, как ей того хотелось. Я должен был подстраиваться под все ее желания.
Троянские игры – это ритуальное зрелище, требующее определенного мастерства в езде верхом, и я к этому времени уже неплохо им овладел. А вот маленький Британник, по моему мнению, вообще не должен был участвовать и ожидаемо выступил неудачно. Ну а мой выход неоднократно вызывал шквал аплодисментов. Так мне сказали. Я правил лошадью, но мысленно был далеко и ничего не замечал, хотя мое тело исправно выполняло все нужные движения.
Мать ликовала, Мессалина была мрачнее тучи. Я понимал, что ненависть Мессалины перевешивает одобрение матери – по крайней мере, в том, что касалось моей безопасности.
– Вас было просто не сравнить, – злорадствовала мать. – Ты – отрок, который вот-вот превратится в мужчину, и он – неловкий ребенок. Публика это увидела, поняла и выбрала тебя.
Та же самая публика в один день на гонках колесниц болела за команду зеленых, а в следующий – за синих. Я не доверял толпе, но выполнил свой долг и теперь хотел одного – уйти к себе в комнату и снова погрузиться в свой мир.
– Клавдий прислал тебе подарок в память об этих играх. – Мать протянула мне маленькое золотое кольцо с инталией[23 - Инталия – разновидность геммы, углубленное резное изображение на камне.] из сердолика; на ней был изображен юноша верхом на лошади. – И он сказал, что гордится тобой.
Я подумал, что это довольно щедро с его стороны, и надел кольцо на мизинец. Причем, на удивление, очень надеялся, что кольцо будет впору. Так и оказалось.
– И еще сказал, что оно принадлежало Германику, когда тот был ребенком.
– Он очень добр, я буду дорожить кольцом.
– Твой дед был бы доволен.
Теперь мне действительно надо было скорее уйти к себе – я чувствовал, что могу расплакаться, хотя сам не понимал почему.
* * *
Год тянулся, как тяжелая повозка по заранее проложенному пути. Ветреная, дождливая весна уступила дорогу сухому пыльному лету, на смену лету пришла золотая осень, и вслед за ней – колючая зима с дождем и снегом. А вместе с зимой наступил и мой десятый день рождения.
– Ты выбрал худшее время года, чтобы появиться на свет, – недовольным тоном заметила мать.
– Вообще-то, ты его выбрала, от меня тут ничего не зависело, – напомнил я. – И потом, погода сейчас, может, и плохая, но лучше времени для дня рождения не придумаешь. Мой приходится на сатурналии[24 - Сатурналии – декабрьский праздник в честь бога Сатурна; первоначально отмечался 17 декабря, позднее торжества были продлены до 23 декабря.].
По мне, так лучше бы сатурналии продолжались весь год, а не одну короткую неделю. Празднества начинались с жертвоприношений у храма Сатурна на Форуме, потом с ног статуи снимали шерстяные обмотки, что символизировало избавление от ограничивающих нас обычаев. На эти несколько дней в году все переворачивалось с ног на голову: вместо тог облачались в свободные греческие одежды, рабы менялись местами со своими господами, все и каждый могли свободно говорить все, что придет в голову. Некоторые люди переодевались так, что их было не узнать, и в таком виде бродили по городу; другие принимали гостей и обменивались подарками; вино лилось рекой, пьянство не возбранялось.
Но меня не трогало разрешение напиваться до бесчувствия; возможность пересекать установленные границы и вырываться на свободу – вот что вызывало у меня неподдельный интерес. Постепенно я начал видеть во всем этом некую значимую связь с началом своего жизненного пути.
– Это опасное время, – сказала мать. – Люди притворяются теми, кем не являются…
– Или перестают притворяться, – заметил я.
* * *
После короткой недели сатурналий год скатился в прежнюю колею с ее нудным ритмом.
Однажды в ту пору, когда на деревьях появляются новые листья, а старые с осени еще лежат вокруг их стволов, я подумал: «Зачем им, деревьям, вообще это нужно? Столько усилий уходит на то, чтобы листья проклюнулись из почек и расправились, и ведь очень скоро они все равно опадут и пожухнут».
Вот такими вопросами я задавался от скуки. Но осенью моя скука была развеяна самым неожиданным и скандальным образом, одно-единственное событие изменило течение наших жизней. И это было выставленное напоказ безрассудство и даже безумие Мессалины.
После сатурналий и своего десятого дня рождения я по-прежнему вел уединенный образ жизни и ничего не знал о любовниках Мессалины. Как, впрочем, и Клавдий. А весь Рим знал. Пока Клавдий в Остии инспектировал строительство своей новой гавани, его супруга устроила публичную «церемонию бракосочетания» со своим последним любовником и новым консулом Гаем Силием.
– Самый красивый мужчина Рима, – с издевкой в голосе сказала мать. – Глупее не придумаешь.
Гай Силий… Крисп представил мне его на гонках колесниц! Я тогда еще подумал, что он похож на Александра Великого.
– О ком ты? – спросил я.
– О них обоих, – улыбнулась мать, – их обоих казнили.
– Что? Мессалину казнили?
Клавдий казнил собственную жену?