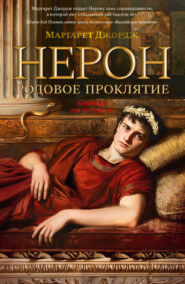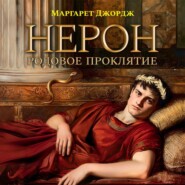По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Генрих VIII и шесть его жен. Автобиография Генриха VIII с комментариями его шута Уилла Сомерса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Итак, осталось открыть вам последнюю тайну. Этот дневник вел не Уильям Кэри, не предполагаемый ваш отец, а настоящий. Король.
Кэтрин Ноллис – Уиллу Сомерсу
Уилл, король не мог быть моим отцом. Как смеете вы оскорблять моих мать и отца и меня саму! Чье давнее прошлое вы разворошили, чтобы выкопать столь гнусную ложь? А я-то считала вас своим другом! Я не желаю видеть этот дневник. Оставьте его при себе со всеми вашими низкими и отвратительными домыслами! Неудивительно, что король приблизил вас к себе. Вы оба родственные души: вульгарные натуры, склонные к подлым обманам. Христос учил нас прощать, но также говорил, что, выходя из дома или города, заполненного лжецами, язычниками и прочими грешниками, следует отрясти прах от ног своих[3 - Пересказываются слова Евангелия от Матфея, 10: 14.]. Именно так и должна я отряхнуться.
Уилл Сомерс – Кэтрин Ноллис
Кэтрин, дорогая!
Удержитесь, прошу вас, от желания порвать это письмо на кусочки, даже не прочитав его. Я не виню вас за вспышку негодования. Она характеризует вас с прекрасной стороны. Парадигма возмущенной чувствительной души, моральных принципов и всего прочего. (Достойная, поистине, покойного короля! Ах, какие воспоминания вы вернули к жизни!) Но все-таки сами себе признайтесь в том, что ваш отец – Генрих Тюдор. Этим знанием вы обладали всегда. Вы упомянули об оскорблении вашего отца. Желаете ли вы так же поступить с королем, отказавшись признать его реальность? Вероятно, его главная добродетель (да, миледи, он обладал добродетелями) и высший дар заключались в умении принять действительность, вне зависимости от того, каковой она представлялась общему мнению. Разве вы не унаследовали этот дар? Или хотите уподобиться вашей единокровной сестре, королеве Марии (я тоже сожалею о вашем родстве с ней), ослепленной страстями и плачевно неспособной различить даже то, что маячит прямо перед ее слабыми глазами? У вашей другой сводной сестры, Елизаветы, иная натура, как и у вас, я полагаю. На мой взгляд, именно смешение кровей Болейнов и Тюдоров дает единственно четкое и ясное видение, не омраченное испанской чепухой. Но я прихожу к выводу, что заблуждался. Вы так же несправедливы, глупы и исполнены религиозной желчи, как нынешняя испанская королева. Следовательно, король Генри сгинул безвозвратно. И об этом позаботились его долгожданные дети.
Кэтрин Ноллис – Уиллу Сомерсу
Уилл!
Ваши оскорбления требуют ответа. Вы заявляете, что я без малейшего почтения отношусь к памяти моего настоящего отца. Но если в моих жилах и вправду течет его кровь, то разве сам он не нанес мне тяжкую обиду, не признав своей дочерью? (В отличие от Генри Фицроя, отпрыска блудницы Бесси Блаунт, которому был пожалован титул герцога Ричмонда.) Почему же тогда я должна признавать или уважать его? Сначала он соблазнил мою мать еще до ее замужества, а впоследствии – если верить вашим словам – продолжал наставлять рога ее законному супругу. Такое поведение заслуживает осуждения. Он всю жизнь грешил и сеял на пути своем лишь ужас и страх. Единственное его благое деяние и то было порождено грешными помыслами, ибо причиной разрыва с папой стало вожделение Генриха к моей тетушке Анне Болейн. (Так Владыка Небесный использует для своих целей даже грешников. Но сие есть заслуга Всевышнего, а не покойного монарха.) Я презираю короля и его воспоминания! Что касается моей кузины, принцессы Елизаветы (ведь для меня она дочь сестры моей матери, и не более), то я молю, чтобы она смогла… Нет, такие мысли слишком опасно доверять бумаге, несмотря на доверие к посыльным и получателям.
Живите, как вам заблагорассудится, Уилл. Я не желаю больше получать от вас письма.
Уилл Сомерс – Кэтрин Ноллис
Кэтрин, призываю вас к терпению. В вашем смятенном письме было много пустого – за исключением одного вопроса, который кажется мне важным. Вы спросили: «…разве сам он не нанес мне тяжкую обиду, не признав своей дочерью?»
Ответ вам известен: Генрих отказался от своих изначальных честных намерений из-за той ведьмы (вновь мне придется оскорбить ваши чувства) Анны Болейн. Она попыталась отравить герцога Ричмонда. Представьте, что ее коварные замыслы обратились бы против вас! Кстати, ваша тетушка не гнушалась колдовством. Как же сильно отличалась от нее ваша матушка! Ее обаяние и привлекательность были врожденными, естественными и такими же чистыми и честными, как и все ее мысли и образ жизни. Из-за них она пострадала там, где преуспела злая ворожея. Честность редко остается безнаказанной, и, как вы знаете, ваша мать не достигла должного положения и благополучия. Король признал бы вас и, вероятно, вашего брата (правда, во втором случае он испытывал меньше уверенности в своем отцовстве), если бы ему не помешала эта колдунья. Она ревновала, ужасно ревновала к вашей доброй родительнице, хотя, Богу известно, сама предоставляла королю множество поводов для ревности: даже всемирное восхищение не удовлетворило бы ведьму, она жаждала поклонения всех придворных льстецов. В конце концов Анна заявила: король, дескать, наградил ее мученическим венцом, лишив мирских почестей. Смех, да и только! Не все казненные являются мучениками. Она пыталась возвыситься до Томаса Бекета и даже до Томаса Мора, но ничего у нее не вышло. Ей не удалось снискать посмертный почет и высшую славу.
Итак, вам следует принять сей дневник. Если у вас не хватит духу примириться с истиной, то сохраните его для вашей… родственницы, принцессы Елизаветы до того времени, когда… Я тоже не смею говорить здесь более откровенно. Это слишком опасно, и ощущение удавки не кажется привлекательным даже для моей дряблой старческой шеи. Сейчас я не могу отдать записки короля в руки принцессы, хотя – и вы явно дали это понять – она могла бы стать более очевидной наследницей. Ее окружают шпионы, за ней постоянно следят. Мария хочет отправить ее обратно в Тауэр и позаботиться о том, чтобы она оттуда никогда не вышла.
Должно быть, вас удивляет, почему королевский дневник попал ко мне. Как вам известно (впрочем, напрасная уверенность: просто нам нравится думать, что наши биографии всем важны, интересны и знакомы), король Генри впервые увидел меня, когда мой хозяин, торговец шерстью из Кале, прибыл во дворец на аудиенцию. Тогда шутовство еще не стало моим ремеслом, и я был всего лишь юным подмастерьем, коему разрешили побездельничать на дворцовой галерее. Не имея возможности для более приятных занятий, скажем для сна или винопития, я предавался любимому развлечению: болтовне. Королю довелось услышать ее; остальное, как обычно говорится, уже история (вот только чья?). Он взял меня к себе на службу, выдал колпак с колокольчиками, однако впоследствии нас связали узы гораздо более крепкие, чего я в то время не осознавал. Мы вместе взрослели и вместе постарели; но здесь мне следует написать, каким был Гарри в те годы. Солнце вечно слепит нам глаза… да, оно заставило зажмуриться даже меня, циничного Уилла. Мы сроднились, как братья, а когда он лежал на смертном одре в Уайтхолле, я оставался единственным, кто знал его молодым.
Однако я отвлекся. Вернемся к дневнику. Я познакомился с Гарри в 1525 году (незадолго до того, как его околдовала эта ведьма). Тогда он ежедневно пополнял некий журнал черновыми замечаниями. Позднее – уже после унизительного скандала с Екатериной Говард, его пятой, с позволения сказать, королевой, – Гарри, страдая от тяжкой болезни, начал вести личный дневник, дабы убить время и отвлечься от боли в ноге, а также от интриг и козней, что упорно плели вокруг него. О да, дитя, он понимал, что теряет власть, и видел, что при дворе в ожидании его смерти уже формируются разные партии. Поэтому открыто он разражался бранью, а свои мысли записывал втайне.
Перед кончиной он делал лишь краткие заметки, которые – о неисправимый жизнелюб! – собирался пояснить как-нибудь потом. (Всего за месяц до смерти он заказал для сада фруктовые деревья. Они могли начать плодоносить не раньше чем через десять лет. Какая ирония: мне сообщили, что в прошлом году они наконец зацвели, а Мария приказала оборвать весь цвет. Если уж ей суждено остаться бесплодной, то и королевский сад должен уподобиться королевской особе.) Но пояснений Генрих так и не дал – видно, не пожелал. Я решил приложить к дневнику эти последние заметки наряду с моими собственными замечаниями и комментариями. Сначала я подумывал о том, не следует ли вовсе уничтожить дневник, но когда принялся читать, то мне показалось, будто сам Генри вновь заговорил со мной, и у меня, как обычно, не хватило духу прервать его. Вы понимаете, старые привычки порой сильнее нас… Я полагал, что успел хорошо узнать Гарри, но в этих записках передо мной предстал другой, неизвестный мне человек – и сие наверняка доказывает, что мы порой не знаем даже самих себя.
Да, я начал говорить о том, как попал ко мне этот дневник. Ответ прост: я его украл. Все, что даже отдаленно связано с покойным королем или традициями былых времен, могли уничтожить сначала реформаторы, а теперь паписты. Первые били стекла в церквях, а вторые, судя по слухам, пошли еще дальше в своих зверствах, и я даже опасаюсь писать о них. Говорят, приспешники королевы тайно извлекли тело Генриха – ее собственного отца! – из могилы, сожгли его и бросили в Темзу! Поистине чудовищное злодеяние!
Таким образом, дневник является последним земным наследием короля. Неужели вы поступите по чудовищному примеру его преемницы и предадите огню эти бесценные страницы? Если вы не считаете себя кровным отпрыском Генриха (во всяком случае, настаиваете на этом), то станьте для него лучшей дочерью, чем законнорожденная.
Какая смехотворная ситуация. Но смех, в сущности, самое цивилизованное из доступных нам проявлений чувств. Шутки сглаживают острые углы и делают нас более терпимыми. Гарри понимал юмор. Вероятно, я могу подшутить и над собой, преступив границы собственного призвания.
Да пребудет с вами благословение вашего таинственного бога.
Прилагаю к сему письму королевский дневник.
Должен заметить, что Бесси Блаунт не была блудницей.
Уилл
Дневник Генриха VIII
1
Вчера один болван поинтересовался, какое первое событие детства сохранилось в моей памяти, явно ожидая, что я радостно предамся сентиментальным детским воспоминаниям, коими положено наслаждаться чудаковатым старикам. Он страшно удивился, когда я приказал ему убираться вон.
Но его любопытство все-таки причинило известный ущерб: ведь мне не удалось с такой же легкостью отделаться от собственных дум. Перед моим мысленным взором пронеслись картины детства, но какую из них я мог бы назвать самым ранним впечатлением? Так или иначе, никто не назвал бы его приятным. Уж в этом я уверен.
Должно быть, я помню себя лет с шести… Нет, моя сестра Мария родилась, когда мне исполнилось пять. Точно. А годом раньше умерла другая моя сестра, Елизавета, и это ужасно поразило меня. Значит, мне было три года?.. Наверное. Да. Именно тогда меня удостоили восторженных поздравлений… И в то самое время мне запали в душу слова «всего лишь второй сын».
Стоял чудный летний денек – жаркий и тихий. Я собирался отправиться с отцом в Вестминстерский дворец на церемонию пожалования титулов и званий. Король долго репетировал со мной весь ритуал, пока я не запомнил его назубок: поклоны, падения ниц перед владыкой Англии и проходы по залу. Мне пришлось пройти ритуальную науку, поскольку предстояло присутствовать на королевской аудиенции.
– Никогда не поворачивайтесь спиной к королю, – пояснил батюшка.
– Несмотря на то, что вы мой отец?
– Несмотря ни на что, – серьезно ответил он. – Ведь я еще и ваш король. Сегодня я произведу вас в рыцари ордена Бани. Перед посвящением вас оденут как отшельника. А потом вы вновь войдете в зал в ритуальном облачении и получите титул герцога Йорка. – Он рассмеялся сухим тихим смехом, похожим на шорох листьев, влекомых ветром по булыжникам мощеного двора. – Тогда они утихомирятся, осознав, что Тюдоры объединились с Йорками! Единственный настоящий герцог Йоркский будет моим сыном. Пусть все увидят это! – Вдруг он понизил голос и мягко произнес: – Вам придется достойно пройти перед всеми пэрами нашего королевства. У вас нет права на ошибку, нельзя показать страх перед ними.
Я глянул в его холодные, серые, как ноябрьское небо, глаза.
– Я не боюсь их, – сказал я, зная, что говорю правду.
Толпы горожан высыпали на улицы посмотреть, как мы проезжаем по Чипсайду к Вестминстеру. У меня была собственная лошадка – белый пони, и я ехал на нем следом за отцом. Его гнедого украшал ковровый чепрак. Даже верхом я почти не возвышался над рядами зевак, выстроившихся вдоль дороги. Я отчетливо видел их лица, запомнил их выражения. Народ радостно встречал наше появление, призывая небеса благословить нас.
Меня порадовала королевская церемония. Дети обычно скучают на официальных торжествах, но я наслаждался. (И любовь к ним я не утратил никогда. Неужели она зародилась именно в тот день?) Мне нравилось, что все глаза в Вестминстер-холле устремлены на меня и я один, без сопровождающих, прохожу по длинному залу, видя вдалеке фигуру отца. Грубая отшельничья одежда царапала мне кожу, но я не смел выказать и тени недовольства. Отец сидел на возвышении в темном резном кресле – на королевском троне. Он выглядел отстраненным, бесстрастным, как и подобает истинному монарху. Немного дрожа, я приблизился к нему, и тогда он встал, взял длинный меч и посвятил меня в рыцари ордена Бани. Подняв клинок, король слегка коснулся моей шеи, и меня поразило, что в такой жаркий день сталь была столь холодной.
Не поворачиваясь спиной и медленно отступая, я покинул зал. В приемной Томас Болейн, один из оруженосцев и телохранителей отца, ждал меня, чтобы помочь переодеться в богатый церемониальный наряд, пошитый специально для сегодняшнего ритуала. И вновь я вошел в зал, повторил проход к трону; теперь уже мне пожаловали титул герцога Йоркского.
Потом меня должны были удостоить великих почестей, всей знати и прелатам следовало выказать мне почтение, признавая меня высочайшим пэром Англии после короля и моего старшего брата Артура. Теперь-то я знаю, а тогда не понимал, что это означало. Титул герцога Йорка доставался лишь избранным претендентам на трон, и потому-то отец вознамерился добиться клятвы верности от придворных, дабы в дальнейшем они не присягнули никому другому – ведь не могло же быть двух герцогов Йоркских. (Так же как не может быть двух голов Иоанна Крестителя, хотя некоторые паписты настаивают на поклонении обеим!)
Но я еще не понимал этого. Мне было всего три года. Впервые я самостоятельно исполнил некую роль и жаждал всеобщего внимания. Я воображал, что теперь все взрослые подойдут ко мне с радостными поздравлениями.
Какое наивное заблуждение. Их поздравления и «признания» выразились лишь в легких наклонах голов и небрежных взглядах, брошенных в мою сторону. Я совсем растерялся среди этого леса ног (мне действительно казалось, что кругом странный лес, – ведь я еще не дорос до пояса взрослого человека, даже самого приземистого), люди то расходились, то сходились, собираясь группками по трое, четверо или пятеро. Я поискал глазами королеву, мою мать, но не нашел ее. Хотя она обещала мне прийти…
Фанфары возвестили, что на длинный стол, протянувшийся вдоль западной стены зала, уже поданы пиршественные блюда. На широкой, как поле, белой скатерти поблескивала золотом изысканная посуда. В тусклом освещении она казалась ярче выставленных кушаний. Вокруг стола начали сновать слуги с огромными золотыми кувшинами. Когда подошли ко мне, я потребовал вина, чем вызвал смех у окружающих. Слуга попытался возразить мне, но я настоял на своем. Он поставил передо мной маленький чеканный кубок и наполнил его кларетом, а я тут же выпил его до дна. Очередной взрыв хохота придворных привлек внимание отца. Он глянул на меня так, словно я совершил тяжкий грех.
Вскоре у меня закружилась голова, и я весь вспотел в своем плотном бархатном наряде. К тому же в переполненном зале стоял спертый воздух. Меня раздражали гудящие над моей головой голоса. Королева так и не появилась, и никто больше не обращал на меня внимания. Я мечтал уже покинуть это скучное пиршество и вернуться в Элтам. Что привлекательного находят в этих праздниках? И я решил больше не завидовать Артуру, который имел право посещать их.
Я заметил, что король стоит в стороне, беседуя с одним из членов Тайного совета, архиепископом Мортоном, как мне показалось. Расхрабрившись от вина (обычно я неохотно обращался к отцу), я собрался попросить его позволения немедленно уехать в Элтам. Благодаря маленькому росту мне удалось незаметно приблизиться к нему, лавируя между стайками сплетничающих придворных и лордов, и встать за его спиной. Полускрытый складками гобелена, я дожидался, пока он закончит разговор. Никому нельзя прерывать короля, даже родному сыну.
До меня донеслись обрывки фраз: «Королева… болезненно…»
Неужели матушка захворала и оттого не пришла? Я подобрался поближе и напряг слух.
– Но она должна похоронить эту боль, – заметил Мортон. – Хотя каждый новый претендент бередит ее рану…
– Вот почему необходима была сегодняшняя церемония. Настала пора покончить со всеми незаконными герцогами Йоркскими. Если бы они могли понять, как это оскорбляет ее величество. Каждый очередной наглец… хотя она знает, что они все обманщики и изменники, однако мне представляется, что слишком долго перед ней маячила физиономия Ламберта Симнела. Вы же понимаете, ей хотелось бы, чтобы остался в живых ее брат Ричард. – Король ронял слова тихо и печально. – Именно поэтому она не пришла. Ей невыносимо было видеть, как на Генри возложат сей титул. Это пробудило бы тяжкие воспоминания. Она любила брата.
– Но она любит и сына. – Утвердительный тон советника замаскировал подразумеваемый вопрос.
– Каждая мать обязана любить сына, – пожав плечами, ответил король.
Кэтрин Ноллис – Уиллу Сомерсу
Уилл, король не мог быть моим отцом. Как смеете вы оскорблять моих мать и отца и меня саму! Чье давнее прошлое вы разворошили, чтобы выкопать столь гнусную ложь? А я-то считала вас своим другом! Я не желаю видеть этот дневник. Оставьте его при себе со всеми вашими низкими и отвратительными домыслами! Неудивительно, что король приблизил вас к себе. Вы оба родственные души: вульгарные натуры, склонные к подлым обманам. Христос учил нас прощать, но также говорил, что, выходя из дома или города, заполненного лжецами, язычниками и прочими грешниками, следует отрясти прах от ног своих[3 - Пересказываются слова Евангелия от Матфея, 10: 14.]. Именно так и должна я отряхнуться.
Уилл Сомерс – Кэтрин Ноллис
Кэтрин, дорогая!
Удержитесь, прошу вас, от желания порвать это письмо на кусочки, даже не прочитав его. Я не виню вас за вспышку негодования. Она характеризует вас с прекрасной стороны. Парадигма возмущенной чувствительной души, моральных принципов и всего прочего. (Достойная, поистине, покойного короля! Ах, какие воспоминания вы вернули к жизни!) Но все-таки сами себе признайтесь в том, что ваш отец – Генрих Тюдор. Этим знанием вы обладали всегда. Вы упомянули об оскорблении вашего отца. Желаете ли вы так же поступить с королем, отказавшись признать его реальность? Вероятно, его главная добродетель (да, миледи, он обладал добродетелями) и высший дар заключались в умении принять действительность, вне зависимости от того, каковой она представлялась общему мнению. Разве вы не унаследовали этот дар? Или хотите уподобиться вашей единокровной сестре, королеве Марии (я тоже сожалею о вашем родстве с ней), ослепленной страстями и плачевно неспособной различить даже то, что маячит прямо перед ее слабыми глазами? У вашей другой сводной сестры, Елизаветы, иная натура, как и у вас, я полагаю. На мой взгляд, именно смешение кровей Болейнов и Тюдоров дает единственно четкое и ясное видение, не омраченное испанской чепухой. Но я прихожу к выводу, что заблуждался. Вы так же несправедливы, глупы и исполнены религиозной желчи, как нынешняя испанская королева. Следовательно, король Генри сгинул безвозвратно. И об этом позаботились его долгожданные дети.
Кэтрин Ноллис – Уиллу Сомерсу
Уилл!
Ваши оскорбления требуют ответа. Вы заявляете, что я без малейшего почтения отношусь к памяти моего настоящего отца. Но если в моих жилах и вправду течет его кровь, то разве сам он не нанес мне тяжкую обиду, не признав своей дочерью? (В отличие от Генри Фицроя, отпрыска блудницы Бесси Блаунт, которому был пожалован титул герцога Ричмонда.) Почему же тогда я должна признавать или уважать его? Сначала он соблазнил мою мать еще до ее замужества, а впоследствии – если верить вашим словам – продолжал наставлять рога ее законному супругу. Такое поведение заслуживает осуждения. Он всю жизнь грешил и сеял на пути своем лишь ужас и страх. Единственное его благое деяние и то было порождено грешными помыслами, ибо причиной разрыва с папой стало вожделение Генриха к моей тетушке Анне Болейн. (Так Владыка Небесный использует для своих целей даже грешников. Но сие есть заслуга Всевышнего, а не покойного монарха.) Я презираю короля и его воспоминания! Что касается моей кузины, принцессы Елизаветы (ведь для меня она дочь сестры моей матери, и не более), то я молю, чтобы она смогла… Нет, такие мысли слишком опасно доверять бумаге, несмотря на доверие к посыльным и получателям.
Живите, как вам заблагорассудится, Уилл. Я не желаю больше получать от вас письма.
Уилл Сомерс – Кэтрин Ноллис
Кэтрин, призываю вас к терпению. В вашем смятенном письме было много пустого – за исключением одного вопроса, который кажется мне важным. Вы спросили: «…разве сам он не нанес мне тяжкую обиду, не признав своей дочерью?»
Ответ вам известен: Генрих отказался от своих изначальных честных намерений из-за той ведьмы (вновь мне придется оскорбить ваши чувства) Анны Болейн. Она попыталась отравить герцога Ричмонда. Представьте, что ее коварные замыслы обратились бы против вас! Кстати, ваша тетушка не гнушалась колдовством. Как же сильно отличалась от нее ваша матушка! Ее обаяние и привлекательность были врожденными, естественными и такими же чистыми и честными, как и все ее мысли и образ жизни. Из-за них она пострадала там, где преуспела злая ворожея. Честность редко остается безнаказанной, и, как вы знаете, ваша мать не достигла должного положения и благополучия. Король признал бы вас и, вероятно, вашего брата (правда, во втором случае он испытывал меньше уверенности в своем отцовстве), если бы ему не помешала эта колдунья. Она ревновала, ужасно ревновала к вашей доброй родительнице, хотя, Богу известно, сама предоставляла королю множество поводов для ревности: даже всемирное восхищение не удовлетворило бы ведьму, она жаждала поклонения всех придворных льстецов. В конце концов Анна заявила: король, дескать, наградил ее мученическим венцом, лишив мирских почестей. Смех, да и только! Не все казненные являются мучениками. Она пыталась возвыситься до Томаса Бекета и даже до Томаса Мора, но ничего у нее не вышло. Ей не удалось снискать посмертный почет и высшую славу.
Итак, вам следует принять сей дневник. Если у вас не хватит духу примириться с истиной, то сохраните его для вашей… родственницы, принцессы Елизаветы до того времени, когда… Я тоже не смею говорить здесь более откровенно. Это слишком опасно, и ощущение удавки не кажется привлекательным даже для моей дряблой старческой шеи. Сейчас я не могу отдать записки короля в руки принцессы, хотя – и вы явно дали это понять – она могла бы стать более очевидной наследницей. Ее окружают шпионы, за ней постоянно следят. Мария хочет отправить ее обратно в Тауэр и позаботиться о том, чтобы она оттуда никогда не вышла.
Должно быть, вас удивляет, почему королевский дневник попал ко мне. Как вам известно (впрочем, напрасная уверенность: просто нам нравится думать, что наши биографии всем важны, интересны и знакомы), король Генри впервые увидел меня, когда мой хозяин, торговец шерстью из Кале, прибыл во дворец на аудиенцию. Тогда шутовство еще не стало моим ремеслом, и я был всего лишь юным подмастерьем, коему разрешили побездельничать на дворцовой галерее. Не имея возможности для более приятных занятий, скажем для сна или винопития, я предавался любимому развлечению: болтовне. Королю довелось услышать ее; остальное, как обычно говорится, уже история (вот только чья?). Он взял меня к себе на службу, выдал колпак с колокольчиками, однако впоследствии нас связали узы гораздо более крепкие, чего я в то время не осознавал. Мы вместе взрослели и вместе постарели; но здесь мне следует написать, каким был Гарри в те годы. Солнце вечно слепит нам глаза… да, оно заставило зажмуриться даже меня, циничного Уилла. Мы сроднились, как братья, а когда он лежал на смертном одре в Уайтхолле, я оставался единственным, кто знал его молодым.
Однако я отвлекся. Вернемся к дневнику. Я познакомился с Гарри в 1525 году (незадолго до того, как его околдовала эта ведьма). Тогда он ежедневно пополнял некий журнал черновыми замечаниями. Позднее – уже после унизительного скандала с Екатериной Говард, его пятой, с позволения сказать, королевой, – Гарри, страдая от тяжкой болезни, начал вести личный дневник, дабы убить время и отвлечься от боли в ноге, а также от интриг и козней, что упорно плели вокруг него. О да, дитя, он понимал, что теряет власть, и видел, что при дворе в ожидании его смерти уже формируются разные партии. Поэтому открыто он разражался бранью, а свои мысли записывал втайне.
Перед кончиной он делал лишь краткие заметки, которые – о неисправимый жизнелюб! – собирался пояснить как-нибудь потом. (Всего за месяц до смерти он заказал для сада фруктовые деревья. Они могли начать плодоносить не раньше чем через десять лет. Какая ирония: мне сообщили, что в прошлом году они наконец зацвели, а Мария приказала оборвать весь цвет. Если уж ей суждено остаться бесплодной, то и королевский сад должен уподобиться королевской особе.) Но пояснений Генрих так и не дал – видно, не пожелал. Я решил приложить к дневнику эти последние заметки наряду с моими собственными замечаниями и комментариями. Сначала я подумывал о том, не следует ли вовсе уничтожить дневник, но когда принялся читать, то мне показалось, будто сам Генри вновь заговорил со мной, и у меня, как обычно, не хватило духу прервать его. Вы понимаете, старые привычки порой сильнее нас… Я полагал, что успел хорошо узнать Гарри, но в этих записках передо мной предстал другой, неизвестный мне человек – и сие наверняка доказывает, что мы порой не знаем даже самих себя.
Да, я начал говорить о том, как попал ко мне этот дневник. Ответ прост: я его украл. Все, что даже отдаленно связано с покойным королем или традициями былых времен, могли уничтожить сначала реформаторы, а теперь паписты. Первые били стекла в церквях, а вторые, судя по слухам, пошли еще дальше в своих зверствах, и я даже опасаюсь писать о них. Говорят, приспешники королевы тайно извлекли тело Генриха – ее собственного отца! – из могилы, сожгли его и бросили в Темзу! Поистине чудовищное злодеяние!
Таким образом, дневник является последним земным наследием короля. Неужели вы поступите по чудовищному примеру его преемницы и предадите огню эти бесценные страницы? Если вы не считаете себя кровным отпрыском Генриха (во всяком случае, настаиваете на этом), то станьте для него лучшей дочерью, чем законнорожденная.
Какая смехотворная ситуация. Но смех, в сущности, самое цивилизованное из доступных нам проявлений чувств. Шутки сглаживают острые углы и делают нас более терпимыми. Гарри понимал юмор. Вероятно, я могу подшутить и над собой, преступив границы собственного призвания.
Да пребудет с вами благословение вашего таинственного бога.
Прилагаю к сему письму королевский дневник.
Должен заметить, что Бесси Блаунт не была блудницей.
Уилл
Дневник Генриха VIII
1
Вчера один болван поинтересовался, какое первое событие детства сохранилось в моей памяти, явно ожидая, что я радостно предамся сентиментальным детским воспоминаниям, коими положено наслаждаться чудаковатым старикам. Он страшно удивился, когда я приказал ему убираться вон.
Но его любопытство все-таки причинило известный ущерб: ведь мне не удалось с такой же легкостью отделаться от собственных дум. Перед моим мысленным взором пронеслись картины детства, но какую из них я мог бы назвать самым ранним впечатлением? Так или иначе, никто не назвал бы его приятным. Уж в этом я уверен.
Должно быть, я помню себя лет с шести… Нет, моя сестра Мария родилась, когда мне исполнилось пять. Точно. А годом раньше умерла другая моя сестра, Елизавета, и это ужасно поразило меня. Значит, мне было три года?.. Наверное. Да. Именно тогда меня удостоили восторженных поздравлений… И в то самое время мне запали в душу слова «всего лишь второй сын».
Стоял чудный летний денек – жаркий и тихий. Я собирался отправиться с отцом в Вестминстерский дворец на церемонию пожалования титулов и званий. Король долго репетировал со мной весь ритуал, пока я не запомнил его назубок: поклоны, падения ниц перед владыкой Англии и проходы по залу. Мне пришлось пройти ритуальную науку, поскольку предстояло присутствовать на королевской аудиенции.
– Никогда не поворачивайтесь спиной к королю, – пояснил батюшка.
– Несмотря на то, что вы мой отец?
– Несмотря ни на что, – серьезно ответил он. – Ведь я еще и ваш король. Сегодня я произведу вас в рыцари ордена Бани. Перед посвящением вас оденут как отшельника. А потом вы вновь войдете в зал в ритуальном облачении и получите титул герцога Йорка. – Он рассмеялся сухим тихим смехом, похожим на шорох листьев, влекомых ветром по булыжникам мощеного двора. – Тогда они утихомирятся, осознав, что Тюдоры объединились с Йорками! Единственный настоящий герцог Йоркский будет моим сыном. Пусть все увидят это! – Вдруг он понизил голос и мягко произнес: – Вам придется достойно пройти перед всеми пэрами нашего королевства. У вас нет права на ошибку, нельзя показать страх перед ними.
Я глянул в его холодные, серые, как ноябрьское небо, глаза.
– Я не боюсь их, – сказал я, зная, что говорю правду.
Толпы горожан высыпали на улицы посмотреть, как мы проезжаем по Чипсайду к Вестминстеру. У меня была собственная лошадка – белый пони, и я ехал на нем следом за отцом. Его гнедого украшал ковровый чепрак. Даже верхом я почти не возвышался над рядами зевак, выстроившихся вдоль дороги. Я отчетливо видел их лица, запомнил их выражения. Народ радостно встречал наше появление, призывая небеса благословить нас.
Меня порадовала королевская церемония. Дети обычно скучают на официальных торжествах, но я наслаждался. (И любовь к ним я не утратил никогда. Неужели она зародилась именно в тот день?) Мне нравилось, что все глаза в Вестминстер-холле устремлены на меня и я один, без сопровождающих, прохожу по длинному залу, видя вдалеке фигуру отца. Грубая отшельничья одежда царапала мне кожу, но я не смел выказать и тени недовольства. Отец сидел на возвышении в темном резном кресле – на королевском троне. Он выглядел отстраненным, бесстрастным, как и подобает истинному монарху. Немного дрожа, я приблизился к нему, и тогда он встал, взял длинный меч и посвятил меня в рыцари ордена Бани. Подняв клинок, король слегка коснулся моей шеи, и меня поразило, что в такой жаркий день сталь была столь холодной.
Не поворачиваясь спиной и медленно отступая, я покинул зал. В приемной Томас Болейн, один из оруженосцев и телохранителей отца, ждал меня, чтобы помочь переодеться в богатый церемониальный наряд, пошитый специально для сегодняшнего ритуала. И вновь я вошел в зал, повторил проход к трону; теперь уже мне пожаловали титул герцога Йоркского.
Потом меня должны были удостоить великих почестей, всей знати и прелатам следовало выказать мне почтение, признавая меня высочайшим пэром Англии после короля и моего старшего брата Артура. Теперь-то я знаю, а тогда не понимал, что это означало. Титул герцога Йорка доставался лишь избранным претендентам на трон, и потому-то отец вознамерился добиться клятвы верности от придворных, дабы в дальнейшем они не присягнули никому другому – ведь не могло же быть двух герцогов Йоркских. (Так же как не может быть двух голов Иоанна Крестителя, хотя некоторые паписты настаивают на поклонении обеим!)
Но я еще не понимал этого. Мне было всего три года. Впервые я самостоятельно исполнил некую роль и жаждал всеобщего внимания. Я воображал, что теперь все взрослые подойдут ко мне с радостными поздравлениями.
Какое наивное заблуждение. Их поздравления и «признания» выразились лишь в легких наклонах голов и небрежных взглядах, брошенных в мою сторону. Я совсем растерялся среди этого леса ног (мне действительно казалось, что кругом странный лес, – ведь я еще не дорос до пояса взрослого человека, даже самого приземистого), люди то расходились, то сходились, собираясь группками по трое, четверо или пятеро. Я поискал глазами королеву, мою мать, но не нашел ее. Хотя она обещала мне прийти…
Фанфары возвестили, что на длинный стол, протянувшийся вдоль западной стены зала, уже поданы пиршественные блюда. На широкой, как поле, белой скатерти поблескивала золотом изысканная посуда. В тусклом освещении она казалась ярче выставленных кушаний. Вокруг стола начали сновать слуги с огромными золотыми кувшинами. Когда подошли ко мне, я потребовал вина, чем вызвал смех у окружающих. Слуга попытался возразить мне, но я настоял на своем. Он поставил передо мной маленький чеканный кубок и наполнил его кларетом, а я тут же выпил его до дна. Очередной взрыв хохота придворных привлек внимание отца. Он глянул на меня так, словно я совершил тяжкий грех.
Вскоре у меня закружилась голова, и я весь вспотел в своем плотном бархатном наряде. К тому же в переполненном зале стоял спертый воздух. Меня раздражали гудящие над моей головой голоса. Королева так и не появилась, и никто больше не обращал на меня внимания. Я мечтал уже покинуть это скучное пиршество и вернуться в Элтам. Что привлекательного находят в этих праздниках? И я решил больше не завидовать Артуру, который имел право посещать их.
Я заметил, что король стоит в стороне, беседуя с одним из членов Тайного совета, архиепископом Мортоном, как мне показалось. Расхрабрившись от вина (обычно я неохотно обращался к отцу), я собрался попросить его позволения немедленно уехать в Элтам. Благодаря маленькому росту мне удалось незаметно приблизиться к нему, лавируя между стайками сплетничающих придворных и лордов, и встать за его спиной. Полускрытый складками гобелена, я дожидался, пока он закончит разговор. Никому нельзя прерывать короля, даже родному сыну.
До меня донеслись обрывки фраз: «Королева… болезненно…»
Неужели матушка захворала и оттого не пришла? Я подобрался поближе и напряг слух.
– Но она должна похоронить эту боль, – заметил Мортон. – Хотя каждый новый претендент бередит ее рану…
– Вот почему необходима была сегодняшняя церемония. Настала пора покончить со всеми незаконными герцогами Йоркскими. Если бы они могли понять, как это оскорбляет ее величество. Каждый очередной наглец… хотя она знает, что они все обманщики и изменники, однако мне представляется, что слишком долго перед ней маячила физиономия Ламберта Симнела. Вы же понимаете, ей хотелось бы, чтобы остался в живых ее брат Ричард. – Король ронял слова тихо и печально. – Именно поэтому она не пришла. Ей невыносимо было видеть, как на Генри возложат сей титул. Это пробудило бы тяжкие воспоминания. Она любила брата.
– Но она любит и сына. – Утвердительный тон советника замаскировал подразумеваемый вопрос.
– Каждая мать обязана любить сына, – пожав плечами, ответил король.