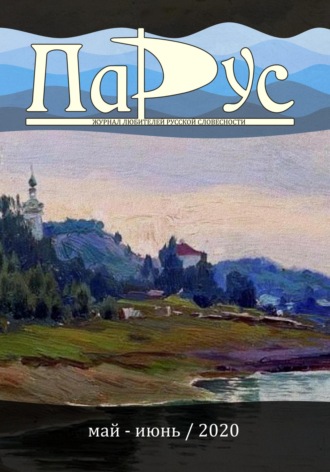
Журнал «Парус» №82, 2020 г.
По руслу – сыро, тишина низко стоит над журчащей водой. Выползло это белое, голое, стыдливое и захотело стать чьим-то телом. Как чья-то голая, призрачная мысль растит свое тело в ольховом глушняке, в таинственном мраке над водой. Тяжело, тоскливо. С этой ношей пришел я сюда, к роднику, заглянул, как обычно, по низкому руслу: извивами, перегороженная валунами, спешила речка по своему делу между корягами и заторами мусора у черных, кривых ольховых стволов. Даже пена случайная хочет во что-то довоплотиться, а душа моя бессмертная стала безвольной и рыхлой, и пугливой, как эта пена. Белая, рыхлая, ноздреватая, как небесный хлеб, выпадавший с неба в пустыне, она жила и хотела чем-то стать, обретала свой смысл в этом черном ольховом глушняке. А человек сам себя, свою душу, превращает в пену.
Поближе к людям
Утка-чирок небольшая, рябоватая, а утятки у неё и вовсе маленькие пушистые шарики, как одуванчики. Увидит тебя – и в осоку, за ней – спрячутся, затаятся. Пруд в огороде, ходил туда, бывало, чуть не каждый день, а то, что у тебя дикая уточка приют обрела – только раз-другой за все лето и подсмотришь.
Такая же семейка водоплавающих обнаружила себя в пруде, что в райцентре у главной котельной. С одной стороны его камыши и кусты. В прежние годы приходилось видеть чирков и в другом конце города, у паромной переправы через Волгу, в устье ручья. А как-то летом жители стали свидетелями, как прямо на центральной улице, у дома культуры, в огородном пруде поселилась утка. Пруд отгорожен забором – прохожие и автотранспорт выводку не мешали.
Совсем не случайно жмутся утки-чирки поближе к людям. В черте города стрелять охотникам запрещено. В огороде тоже не многолюдно, чужим туда входа нет. Вот и выходит, что в таких местах намного безопаснее, чем в заливах и болотах по берегам Волги, в угодьях, где в охотничий сезон начинают раскатисто бухать выстрелы.
Загорбатится в поле прохожий
Мир полон жизни подспудной, за каждой вещью, предметом – дышит, как радуга, их психическая материя. Во всем чудо. Скрытый рай, всё сияет, прорастает, как во время пророческого видения, когда слышатся божественные глаголы. Так примерно, писал в своих стихах Андрей Белый. Вот идет у него «полевой пророк», «ликованием встревожив окрестность», плетет на просторе «колючий венок из крапивы». «Загорбатится в поле прохожий – приседает покорно в бурьян».
И в этом горбатом прохожем пророке что-то чудесное, сказочное. Это детское, юношеское восприятие мира, его красок, радующих, как радуга. Отсюда же и «половодье чувств» Есенина, и даже брюсовское восприятие книжности: в ней тоже изумленность: сердце, изумленное античными морями, триремами, сиренами, героями – книжное тоже озаряется той же радугой.
Тут не вижу ничего сухого, рационального. Все символисты чувствовали эту психическую материю иного мира, она приблизилась к ним, насколько было можно, но они не услышали гремевшего за ней глагола. А может, этот глагол струился особой тишиной и молчанием, которые заглушила суета, войны? Не услышали Бога.
Умная корова
Паром плывет по Волге на правую, деревенскую сторону. На скамейке пожилая женщина с костылем рассказывает молодой о себе. О том, как держала она на дворе корову с телкой. Да однажды вышла с пойлом и поскользнулась. Упала неудачно – сломала шейку бедра. Боль жуткая. Скотина забеспокоилась. Но хозяйка не закричала, а только приказала: «Стойте тихо».
– И они послушались, не ревели. Скотина слова понимает. Что я с коровой разговариваю, что с тобой! – Говорит женщина с костылем. В избу ползла она со двора целый час. Потом попала в больницу, и надолго. В бедро вставили стальной шарнир.
– Говорят, поросята – самые умные! – отозвалась молодая. – Я бы поросеночка хотела завести. Время сейчас трудное…
– Все умные – и телята, и поросята, – строго уточняет пожилая с костылем. – Но ты, если дела не имела со скотиной, лучше ее не заводи.
– Вот и я думаю: ходи за этим поросенком, а потом его под нож. Привыкнешь, наверное, плакать будешь.
– Я плакала, – просто говорит пожилая. – Пока я лежала в больнице, и корова, и теленок над моим стариком озоровать стали. Все норовили боднуть или хвостом хлестнуть. Вроде как его виноватым считали за то, что со мной приключилось. Так я без скотины и оказалась…
И она, тяжело опершись на костыль, с трудом встала и заковыляла на сходни.
Деревья
Спуск к речушке – красная дорога, красная глина между таких же красных на солнце стволов сосен. У кустов, в тени, будто облили место спиртом и подожгли – синее пламя колокольчиков, фригийские васильки, такой же синий фитиль осота. Долгий деревянный скрип сосны – будто открывается дверь на ржавых петлях в подземелье… Два дня подряд ходил в сосняк: собирал грибы…
Вдруг захлестал дождь. Муха залетела под капюшон, а я спрятался от дождя на опушке леса и прижался спиной к толстой сосне. В позвоночник неприятно втекла холодная немота и тяжесть ее жизни, и я перебрался под другую сосну, напротив. Под ней было суше и спокойнее. Слушал дождь и все поглядывал на первую, под которой мне стало так неуютно. Кривой толстый ствол ее, как застывший ящер, внизу выбросился двумя мускулистыми короткими лапами. В ней и сквозь кору мощно чувствовалась замершая, одеревеневшая жизнь, ее слепой сон. А вся опушка вокруг в безжалостных свалках, в изрубленных бесцельно деревьях… И такая сила сдается хлипкому человеку с маленьким топориком! Молча, без сопротивления, словно дав обет все претерпеть. Так первые христиане радовались мученической смерти, когтям и зубам зверей в амфитеатре, чтобы разрешиться и быть со Христом. И, глядя на сучья, похожие на лапы допотопного ящера, я подумал: а если после смерти мы попадем в миры возмездия – не будут ли там наказывать нас и бессмысленно погубленные нами деревья с растениями? Мы ждем каких-то фантастических существ, а они – здешние покорные кусты и сосны, иван-чай и лопухи, только пробудившиеся от своего слепого сна и получившие способность двигаться, давить, подцеплять – разве не фантастичны? А мы, наоборот, потеряем там нашу свободу передвижения и от грехов одеревенеем. Развоплотимся: кто станет получеловеком-полудеревом, кто – человеком-камнем. А они – и сосна, и каждый цветок, каждая травинка обрушатся на нас, как Вии, своими мохнатыми лапами, щекотливыми щупальцами корней.
г. Мышкин
Литературный процесс
Евгений ЧЕКАНОВ. Горящий хворост
(окончание)
***
Ломать коням тяжелые крестцы…
Александр Блок
В своих квартирах все мы храбрецы.
Эй, мальчик-с-пальчик! Верь своим победам,
Смиряй рабынь, ломай коням крестцы,
Но не спеши наружу, к людоедам.
И без того сейчас померкнет свет
И тьма решит свой бег начать сначала.
И, как былинка, треснет твой скелет
В тяжелой лапе века-каннибала…
Поэт может вообразить себя могучим и грубым скифом – и начать говорить от имени скифа, за всех скифов: мол, привыкли мы, хватая под уздцы… И это не будет натяжкой. Кто-то ведь должен был однажды озвучить общескифскую точку зрения на мир, скифский миф.
Но сам поэт, в бытовой своей жизни, может в то же самое время обитать в мире другого мифа – созданного кем-то другим. И в этой своей ипостаси может быть всего лишь маленьким мальчиком, сжимающимся от страха внутри маленького домика, вокруг которого шастает голодный людоед.
И оба этих сна наяву, совершенно не противореча друг другу, могут располагаться в твоей голове, читатель, в том мифе о пространстве и времени, который ты создал сам для себя.
Мешанина мифов?
Стройная их пирамида?
Интерференция мифов?
Как бы там ни было, каждый из этих «снов наяву» внутренне логичен, прочен, самодостаточен, и выходить за его пределы – опасно…
ВЕЧЕР НА ВОЛГЕ
Снова падают звезды в реку,
Снова тишь на земле и на небе.
Спит деревня на том берегу,
Мирно грезя о сене и хлебе.
Всё как в прежние тысячи дней…
И луна, голубая от века,
Так спокойна, как будто по ней
Не ступала нога человека.
Я никогда не считал себя «антисоветчиком», да и не был им. Недавно это засвидетельствовал один мой приятель, полковник ФСБ в отставке. «Я еще в конце 70-х всю твою биографию изучил, – сказал он мне за чашкой чая, – подтверждаю, не был».
Более того, я и сейчас, в первой четверти XXI столетия, не возьму на себя смелость утверждать, что модель устройства общества в последние десятилетия существования Советского Союза была однозначно ущербной, не соответствовавшей задачам, стоявшим тогда перед моим государством. Может, была, а может, и нет. Это через полвека-век решат специалисты, подытожив пореформенный опыт наших успехов и потерь.
Но было и то, что решительно не нравилось мне в советской державе. Прежде всего, «марксистско-ленинская» ложь – всеобъемлющая, безграничная, проникающая во все поры общества. А еще – цензура, невозможность открыто высказать свою точку зрения. Именно этих двух монстров (а может быть, и только их одних) я и считал своими врагами, именно с ними воевал, насколько хватало сил.
Повальный обман тех лет вызывал у меня недоверие буквально ко всему на свете! Оно проникло даже в маленький лирический пейзаж, написанный в самом начале 80-х годов. Последней строчкой, ставящей под сомнение идиллическую картинку бестревожного сельского вечера, я говорил читателю: да ведь на самом-то деле нога человека уже ступила на поверхность Луны. Нам с Земли отпечаток пятки Армстронга, конечно, не виден, но ведь в реальности этот след там есть. А посему умиляющий нас девственный вид спутника нашей планеты – не что иное, как обман. И ровно так же обманна картинка вот этого нашего нынешнего покоя, этих мирных грёз… ничего этого на самом деле нет – ни мира, ни покоя, всё чревато взрывом и распадом!
Жизнь показала, насколько я был прав в своих предчувствиях.
Есть у этого стихотворения и второй план – это мечта о том, чтобы всё было именно так: тихо и покойно. Вечная мечта не только моего лирического героя, но и всего земного человечества…
КЛИНОК
Ты помнишь, как лежал
В горниле страсти поздней?
Твой темно-красный жар
Мерцал сквозь плоть и кости,
Твой бесполезный пыл,
Искрясь, летел наружу.
А демон страсти – бил,
Выковывая душу!
Как тяжко ты молчал
В юдоли раскаленной!
Как страшно ты кричал
В обители студеной!
Как долго ты лежал,
Охваченный покоем,
Приобретя закал
Перед последним боем.
Перечитывая сейчас это стихотворение, я вижу, что оно размышляет не только о пылких чувствах мужчины по отношению к женщине, но и вообще о любой человеческой страсти: например, о страстном желании так называемых «жизненных благ» – денег, славы и так далее.
Православная традиция рассматривает любую страсть как порок и призывает вооружаться против него. Но мне представляется, что демон страсти очень схож с кузнецом, как раз и выковывающим из «заготовки» нашей души то оружие, которое необходимо нам в борьбе с сатаной.
Да, наша душа-христианка корчится и вопит под ударами беспощадного молота. Но зато какой великолепный клинок получается затем из нее!
***
Она говорит мне, что я не умею любить,
Что я не умею хранить дорогого тепла…
Кто знает, кто знает.
Рыдает и гонит, грозит, обличает вдогон
И мне предрекает бездомную старость и смерть.
Посмотрим, посмотрим…
Она еще любит – и поэтому бросает в тебя свои гневные слова. Ее трясет и колотит. А ты уже распрощался с ней в своей душе – и поэтому спокоен. Всё уже произошло, думаешь ты, осталось только собрать вещи.
Отчего она была спокойна прежде – тогда, когда трясло тебя? Почему ваши реакции не совпадают по времени, почему она всё время опаздывает? Может быть, в этом-то и причина вашего разрыва – в асинхронности ваших реакций? Ты всё время впереди: первый влюбляешься, первый делаешь первый шаг навстречу… А она всё время отстает. Когда ты интересуешься ею – она равнодушна, когда влюблен по уши – она заинтересована, когда тащишь в койку – начинаешь ей нравиться.
А сейчас, когда ты уже разлюбил ее, – она еще любит.
…Вот она бьет тебя по лицу своими неумелыми кулаками и, задыхаясь от ярости, рвет твою одежду. Боже, как же долго всё это будет продолжаться? когда фаза рефлекса сменится у нее фазой инстинкта? когда она начнет, наконец, делить квартиру, выстраивать график твоего общения с ребенком и порядок выплаты алиментов?
ВОСЕМЬ СТРОЧЕК
Один как перст
в убогой комнатушке,
при свете лампы
в сорок пыльных ватт
поэт поет
веселые частушки,
по струнам ударяя
невпопад.
Нет, он не пьян.
Он выпил, это правда.
Но весел он
отнюдь не от вина.
Он восемь строчек
сочинил недавно –
и строчки те
узнает вся страна.
А не узнает –
право, ей же хуже.
Ведь в этих строчках –
путь к любой душе.
Без них вся жизнь
пойдет скудней и суше…
Но он нашел их!
Он нашел уже!
Ему открыта
истина святая!
И потому
струится пыльный свет,
бросает тень
бутылка початая,
звенит струна
и в стенку бьет сосед…
Так оно и было у нас в советские времена: несколько поэтических строчек вдруг облетали всю империю, делая автора знаменитым. Нынешним отечественным сочинителям впору горевать об отмене цензуры и о появившейся возможности мгновенно публиковать в интернете всё, что напишется. Публиковать-то можно, но кто теперь будет читать это? кто обратит внимание? всё теряется во «всемирной паутине»… А вот раньше!..
Но я таких стенаний не поддерживаю в принципе. И склонен считать, что именно нынешняя ситуация – нормальна. Просто мы, люди рубежа двух веков, никак не можем привыкнуть к ней, нам кажется, что современное многоголосье заглушает отдельные голоса.
Нет, не заглушает. Нужно всего лишь научиться слушать, надо произвести «тонкую настройку» своего читательского уха. И тогда шум эпохи исчезнет, и в гулкой тишине вновь начнут звучать удивительные строки, прокладывающие путь к любой душе. Даже к временно оглушенной душе.
К МЕЛОЧИ
Навек обижена судьбой,
Жила ты с нею не в ладу.
Но я тебя таскал с собой –
И ты звенела на ходу.
На этот звук со всех сторон
Бежали нищие с сумой…
Все принимали этот звон
За речь мою, за голос мой.
А я молчал в укрытье лет,
Готовя жизнь к другой судьбе.
И ты звенела на весь свет,
И люди кланялись тебе.
Так жить надеешься и впредь…
Но я выбрасываю хлам.
Пустая медь, кончай звенеть!
Пора звучать колоколам!
Когда мастер колокольного звона идет по земле, медленно приближаясь к своей колокольне, в его карманах звенят медяки. Звонарь молчит, весь погруженный в свою думу, готовясь к исполнению священной своей миссии, а пустая медь звенит при каждом его шаге – и только один этот звон и слышат окружающие. И большинство из них связывают этот мелкий звон с обликом звонаря.
Он может идти так годами, десятилетиями – долог путь до первого удара в свой колокол! – и мало кто будет знать, что он и есть тот самый человек, который заставит всех в округе однажды остановиться и поднять глаза к небу.
Но это он. Медяки это чувствуют – не зря же они скопились в его карманах. Когда он, уже в силе и славе, спустится с колокольни и побредет домой, они забренчат во всю ивановскую: это мы, мы были с ним всегда!.. это наш голос вы слышали!..
Что ж, на белом свете для чего-то нужны и вы, мелкие созданья. Когда звонарь зайдет в кабак и спросит себе чару зелена вина, ему будет что бросить на прилавок.
Звени, мелочь, звени…
КРЫЛАТЫЙ ЯЩЕР
Не знаю, хорош ли я, плох ли,
Но знаю, что жив и здоров.
Я выжил, а вы передохли,
Не выдержав лютых ветров.
Рептилии! Братья по классу,
Тяжелые дети земли!
Я сбросил ненужную массу –
И выжил. А вы не смогли.
Не зря меж друзей длиннохвостых,
Под хохот тритонов и жаб
Веками я вспарывал воздух
Нелепыми взмахами лап,
Не зря напрягал сухожилья
И прыгал цыпленком смешным…
Глупцы, я растил себе крылья!
Себе – и потомкам своим.
И вот я почувствовал ветер,
И ветру подставил крыло.
Над стадом, над темным столетьем,
Над миром меня понесло.
Остались внизу мои беды
И хохот, и злое вранье —
И радостным кличем победы
Наполнилось горло мое.
Забудьте крылатого брата,
Живите без лишних затей!
Вас всех откопают когда-то
И в пыльный поставят музей,
И бирки приклеят впридачу…
Уж там-то, страдая от блох,
Вы сразу решите задачу,
Хорош ли я был, или плох.
Ученые люди говорят, что крылатый ящер – это не птица, что птеродактиль – ни разу не родственник даже археоптериксу… Но все-таки рептилии летали! И если бы не ужасный юкатанский астероид, одним махом сгубивший всех динозавров, то предкам нынешних птиц нипочем не удалось бы оккупировать воздушное пространство нашей планеты. Крылатые ящеры сожрали бы всех археоптериксов!
Палеонтология еще не раз перетряхнет свои ретроспекции. Но если современная концепция возникновения птиц и верна, это не отменяет главной идеи моего стихотворения: чтобы научиться летать, нужно постоянно прыгать, махать конечностями, напрягаться, учиться искусству планирования…
Трудись! – и однажды ветер времени поднимет тебя на высоту, недосягаемую для тритонов и жаб. Ну, если не тебя лично, так твоих потомков.
ХОЛМЫ АФРОСИАБА
Грустят холмы Афросиаба
От Самарканда в стороне.
Есть грусть и большего масштаба,
Но эта тоже внятна мне.
Непросто знать, что ты был первым
И виден был со всех сторон,
Что жестом времени неверным
Ты на окраину смещен,
Что ни в народе, ни в природе
Уже нет памяти о том,
Как ты шумел и колобродил
В забытом веке золотом.
Декабрьский дождик прочь уходит,
Грустя, как слава и талант.
Вдали шумит и колобродит
Веселый город Самарканд.
Ах, он не ведает, не знает,
Себя, прекрасного, любя,
Что вечной славы не бывает,
Что вечность славит лишь себя,
Что даже Мекка и Кааба
Уйдут однажды в забытье…
Крадется грусть Афросиаба
В стихотворение мое.
Вечность ничего не увековечит в подлунном мире – ни тебя, ни твой город, ни твою страну, ни твою планету: все наши свершения однажды будут занесены песками времени. И сами эти пески однажды исчезнут… Так думал я, бродя в начале XXI столетия по холмам древнего городища под Самаркандом.
Зачем же мы так настойчиво добиваемся известности на этом свете? зачем стремимся запечатлеть свои имена на осыпающихся твердынях материального существования? Такое стремление может говорить только об одном – о нашем неверии в вечную жизнь на просторах, сотворенных Создателем.
Значит, мы не верим в вечную жизнь? Но вот эти холмы – разве не говорят они нам о тщете жизни временной?
СТОЛПНИК И ФАРИСЕЙ
Словно ветер, вздымается зависть в толпе,
Подчиняющей душу закону.
«Ты зачем это встал на особом столпе? –
Говорит фарисей Симеону. —
Чем высок ты пред Богом – не знает никто!
Так скажи перед ликом соборным:
Для чего ты стоишь? С кем ты споришь? И что
Утверждаешь стояньем упорным?
Не по нашим канонам спасаешься ты
И не наше наследуешь знанье.
Слишком просто ты хочешь достичь высоты,
Слишком дерзко твое предстоянье.
Мы столетьями просим у славы скупой
Подаянья – а ты уже славен?
Не созрел ты, благой, чтоб стоять над толпой!
Даже нам, многогрешным, не равен!..»
Но стоит терпеливо над вечным ханжой
Кроткий пастырь на камне заветном,
Не смущаем ни речью, ни мыслью чужой,
Не колеблем завистливым ветром.
Для чего он стоит? С кем он спорит? И что
Утверждает судьбою своею?
Чем высок? Только Господу ведомо то
И неведомо то фарисею.
Фарисей есть фарисей – ему непременно нужен кто-то, кого можно гнобить. В моем отечестве на этом поприще ныне особо выделяются неофиты от православия. Заполнив домашнюю библиотеку трудами из святоотеческого наследия и вычитав в них то, что созвучно завистливой душе, такие «праведники» начинают искать жертву в среде творцов, ищущих Бога. И находят ее, чаще всего, в лице того, кто, в отличие от них, является художником, но не воспроизводит, буква в букву, древний канон, осмеливается идти в своем творчестве собственным путем.
Вот тут и начинается… Творческая немощь неистовых ревнителей восполняется псевдоправославной болтовней, понимание сущности дела подменяется обилием цитат. И на всю страну начинают звучать упреки по поводу якобы недостаточной религиозности творцов-художников, незнания ими «основ благочестия» и т.п. Упреки столь запальчивые, словно сам Господь выдал критикам пленарную индульгенцию, удостоверил, что их устами глаголет истина в последней инстанции.
Если такие фарисеи еще и не поленятся съездить на Святую Землю, то от их наставлений становится просто некуда деваться. Мы, мол, сподобились благодати Христовой, а ты не дорос до глубин, не созрел о Господе свидетельствовать, клади стило на стол. Такие лицемеры и преподобному Симеону указали бы: не смеешь ты, братец, на особом столпе стоять…
На фоне этих моих размышлений и родилось стихотворение о Симеоне-столпнике и критикующем его фарисее. Исторически секта фарисеев и святые столпники разнесены во времени, но психологические типы их, как выяснилось, живут и здравствуют.

