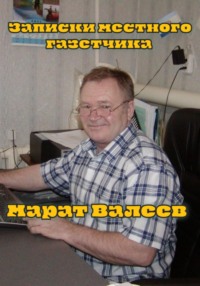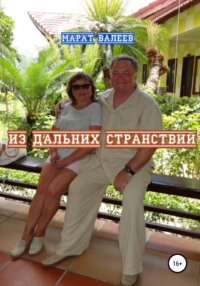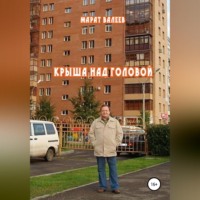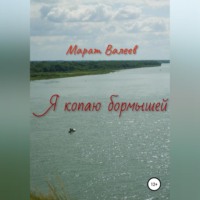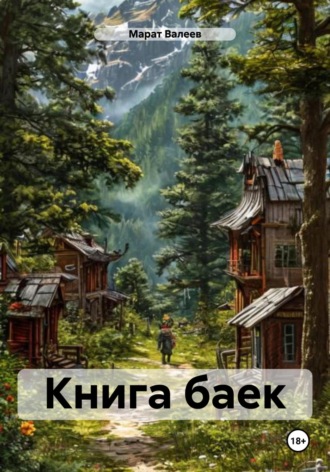
Книга баек
На жерлицу я думал ловить щук. Удивительно, но ни одной из этих речных разбойниц за три моих поездки в отпуск на Калган-Дарью я так и не выловил – похоже, их здесь и нет. Зато на живца садился змееголов, удивительная рыба, которую мне до этого не приходилось видеть, и я даже не знаю, с чем ее сравнить. Может быть, что-то между угрем и вьюном? Темное веретенообразное тело с мелкой чешуей, очень сильное и гибкое, обрамленное длинным продольным плавником, увенчано небольшой приплюснутой головой с маленькими тусклыми глазками – ну змея змеей. Мясо белое, вкусное, почти без костей. Мне попадались небольшие экземпляры, до килограмма и чуть больше.
Да, ловил еще и сомят, но уже не на живца, а на рыбную нарезку из кусочков сороги. Это я вечерами приезжал на велосипеде к озеру и оставлял на ночь пару-тройку жерлиц с коротенькими удилищами, спрятанными от досужих глаз в камышах. Когда утром приходил сюда на рыбалку, пусть не на всех трех тройниках, но на одном точно, а то и на двух тихо-мирно сидели эти самые змей-башки и пару раз сомята под килограммчик. Так что свое обещание я сдержал, принося с каждой рыбалки килограммов четыре-пять свежей рыбки. Правда, разделывать мне ее приходилось самому – ни жену, ни тещу заставить чистить и потрошить рыбу невозможно было даже под страхом насильственного утопления их в Калган-Дарье во время очередного купания (а купаться мы ходили каждый день). Впрочем, мне это было не в тягость – улов на рыбалке частенько приходилось потрошить и присаливать с целью его сохранения и на Иртыше. Да и интересно было: только я устраивался со своим уловом под раскидистой яблоней, как на запах рыбы сбегались голодные коты с соседних дач, шурша травой и опавшими листьями, выползали из-под кустов смородины прижившиеся на даче парочка забавных ушастых ежей и взволнованно поводили туда-сюда своими чуткими блестящими носиками, вились над головой полосатые осы и тоже норовили урвать свой кусочек рыбной плоти. Все хотели рыбы – а кому не надоест неделями жрать дачный силос?
Но все выловленное мной в Калган- Дарье было мелочью по сравнению с тем, что там еще водилось среди густых, лениво шевелящихся водорослей. Однажды я был ошеломлен внезапно открывшейся передо мной захватывающей картиной. Я сидел на глинистом берегу озера, отмахиваясь от комаров и ожидая поклевки, как вдруг метрах, может быть, в двадцати от меня из глубины медленно всплыли шесть (я пересчитал их по толстым спинам) огромных светлых рыбин, выстроились колесом и стали величаво плавать по кругу. Причем хоровод этот не стоял на месте а, не нарушая своего порядка, медленно отдалялся от меня вдоль озера (Калган-Дарья, как я уже писал выше, продолговатая). Разинув рот, я наблюдал за этим завораживающим зрелищем минут пять. Пару раз ущипнул себя – нет, рыбы не пропали, а также медленно, едва шевеля плавниками, ходили по кругу, как будто совершали какой-то вполне осмысленный ритуал. А вскоре исчезли из поля моего зрения – то ли слились с бликующей на солнце водой, то ли ушли в глубину. Что это было, я так тогда и не понял. Может, я стал свидетелем брачных игр, что было ближе к истине?
Спрашивал об этом тестя, тот не рыбак, сказал лишь, что по описанному мной виду это были белые амуры. А еще Юрий Федорович сказал, что они здесь бывают огромными, в несколько десятков килограммов, и ловят их на сети браконьеры. А чуть поменьше амуров в Калган-Дарье водятся также толстолобики. И тот, и этот виды питаются озерной растительностью и на удочку их поймать практически невозможно.
А я с того дня просто заболел от запавшего мне на душу желания выловить хоть одного такого красавца. И за время отпуска я выворотил из озера не одного крупного сазана, змееголова, даже поймал жереха. А амуры и толстолобики и думать обо мне не хотели и продолжали пастись себе где-то в подводных зарослях.
Однажды после знойного дня, поужинав и посмотрев телевизор, мы уже отходили ко сну в дедовском прохладном железобетонном дачном домике, когда в калитку кто-то настойчиво постучал. Пошел Юрий Федорович – он же хозяин. Включил наружный свет, впустил гостя. Это оказался Борис, живущий от наших стариков через три или четыре дачи.
– Я к тебе, – сказал он. – Юра говорил, что ты амурами интересуешься. Пошли.
– На рыбалку? – заволновался я. – Пошли!
– Нет, я уже поймал. Посмотришь. Может, купишь чего.
Настоящему рыбаку западло покупать рыбу у кого-то. Но тут такое дело – уж больно хотелось подержать в руках, да и отведать потом, эту таинственную для меня рыбу.
И мы черной южной ночью, сквозь неумолчный стрекот и звон сверчков и цикад, отдаленный визгливый лай шакалов потопали к нему.
Несмотря на поздний час, дача Бориса была освещена. Мы вошли к нему в палисад, и под окнами домика, я увидел лежащих на темном мокром куске брезента штук восемь красавцев толстолобиков и белых амуров (их легко отличить – у последних чешуя намного крупнее, и они продолговатей). Каждый был длиной не меньше метра. Да, вот таких я и видел тот раз в таинственном рыбном хороводе на утренней рыбалке. Может, даже кто-то из них и залетел в сети браконьера Бори.
– Ну? – горделиво спросил Боря.
– Беру! – выдохнул я. – Вон того, с краю.
И показал на самого большого. Это был пузатый и, надо полагать, очень жирный, а может, и икряный амур. А у Бори в руках уже сверкнули круглым циферблатом компактные такие весы. Он подцепил амура крючком за нижнюю челюсть, крякнул и приподнял моего красавца, отливающего крупной платиновой чешуей.
– Смотри, сколько там?
– Одиннадцать с половиной! – с душевным трепетом сказал я, поглядев на стрелку весов.
– У тебя будет, во что завернуть?
Уж не помню, сколько тенге потянула моя рыбина, но помню, что в переводе на рубли это показалось мне баснословно дешево. Боря сказал, что за деньгами придет завтра. Он нашел мешок, вот в нем я и притащил амура домой. То есть на дачу. Родичи долго восхищались этим богатырем рода карповых. А потом встал вопрос, что с ним делать именно сейчас. В забитый до отказа холодильник он не влезал. Оставить его так, сунув, например, в воду – он стопроцентно к утру протухнет.
– Спокуха! – сказал я родне. – Я его щас быстренько разделаю, присолю, и в погребе он спокойно пролежит хоть до вечера. Стол мне!
Под навесом, увитым виноградом, мне поставили стол, принесли таз для мяса и ведро для чешуи и потрохов. Потом женщины ушли спать. Мы с тестем втащили скользкого и покорного амура на столешницу, и я в желтом свете висящей под навесом лампочки стал с треском сдирать с его боков уже начавшую присыхать чешую. Она, размером с николаевский серебряный рублевик, со свистом улетала в разные стороны и сбивала наземь порхающих под лампочкой ночных мотыльков и бабочек, прилипала к лысине нагнувшего голову тестя (он держал амура за хвост, чтобы тот не елозил по столу), к бетонным стенам дачного дома, к лобовому стеклу ночующего во дворе дачи тестевского москвича.
На то, чтобы содрать с рыбины чешуйчатую броню, у меня ушло минут двадцать, не меньше. За это время я сам стал похож на амура, так как с головы до ног был покрыт его чешуей.
Отряхнувшись и перекурив, я попросил тестя принести большую чашку для икры (ну, вдруг будет, кто знает, когда у них шуры-муры, у этих амуров) и печени, и, вонзив нож в анальное отверстие, вспарываю амуру его пузатое брюхо. И ошеломленно отскакиваю от стола: рыбье чрево взрывается какой-то буро-зеленой массой, которая выплескивается мне на ноги и зловонной лужей растекается по бетонному покрытию дворика.
-…! – ору я вне себя. – Что это за дерьмо?
Эта масса и в самом деле оказалась дерьмом. Рыбьим. Но столько его в одной рыбине я еще ни разу в своей жизни не видел. Чрево амура было до упора забито слопанной им за день (а скорее всего – за неделю) и полупереваренной или уже усвоенной растительной дрянью: всякими водорослями, ряской, тиной.
Когда мы с тестем – ему тоже, кстати, досталось неслабо, – слегка привели себя в порядок и затем заново взвесили изрядно отощавшего амура, он весил почти наполовину меньше. То есть удельный вес дерьма в нем составил около пяти килограммов! За которое я заплатил полновесной казахской валютой.
Я уже хотел было подбить тестя идти бить морду Борису (один бы не справился – Борис был раза в полтора массивней меня). Но потом остыл и пришел к выводу, что Борис тут ни при чем. Ну, как бы он заставил амура покакать перед тем, как продать его мне? И, во-вторых. продал-то он мне его все же очень дешево – вероятно, как раз со скидкой на содержимое его чрева.
Рассудив так и успокоившись, я продолжил разделку амура. У него все же достаточно оказалось мяса у головы, на спине и в хвосте (а вот бока представляли собой тонкую кожистую тряпицу). Так что из головы мы сварили на обед замечательную уху, а остатки мяса еще пару дней жарили на ужин.
Вот такое у меня было знакомство с чудесной рыбой белым амуром, изловленным браконьером Борисом в старом притоке Сыр-Дарьи – Калган-Дарье.
А вот мне на удочку амур, к сожалению, так ни разу и не попался….
Байки деревенские
Ну и как там, в Кайманачихе?
И вот снова ледоход на Иртыше, правда, нынче что-то раньше обычного. Что поделать, климат портится в связи с глобальным потеплением. Во всяком случае, так говорят сведущие люди. На реке неумолчный шум: шуршание, звон, льдины наползают друг на друга, плывут целыми полотнами и мелкими кусками, цепляются за берег и даже выползают на него. Как-то тревожно всегда в это время на душе от этакой силищи реки и в то же время весело – лето скоро!
А мне в связи с ледоходом вспомнился один забавный случай, вернее даже будет – байка, которую я, будучи еще мальцом, услышал у себя дома, когда отец и наш сосед дядя Ваня Рассоха бражничали за кухонным столом по случаю… ну или просто выпал случай. И вот они, похохатывая, обсуждали, видимо, совсем недавно произошедший случай. По давности лет я уже не помню всех подробностей, кроме самой фабулы истории да имени одной ее героини – бабы Дуси. Имя же ее мне запомнилось потому, что оно после той истории сохранилось в одной крылатой фразе, какое-то время использовавшейся моими односельчанами к месту и не к месту (вот мой одноклассник Вовка Гончаров не даст соврать, тоже слышал ее). А со временем уже даже и без связи с тем случаем, к которому я все еще подступаю.
Итак, жили были дед да баба. Бабу точно звали Дуся, а деда… Поскольку имя его в моей памяти не сохранилось, то пусть будет, ну скажем, Тимофей, а проще – дед Тимоша. Жили они себе, поживали, да бражку попивали. Но последнее больше относится к деду Тимоше. В те годы, а было это в конце 50-х, на селе многие ставили бражку – ну чтобы не тратиться на магазинную водку. Кто-то гнал из нее самогонку, но большей частью народ ее попивал, родимую, вместо кваса. А поскольку дед Тимоша поквасить очень любил, то на этой почве у него с бабой Дусей нередко возникали трения. Они хоть и были оба уже пенсионеры, но дед Тимоша еще продолжал работать на совхоз кем-то вроде экспедитора, и что-то куда-то отвозил и привозил на закрепленной за ним конной повозке – летом на телеге, зимой на санях. А наквасившись, мог забыть, куда ему надо ехать и зачем. За что баба Дуся нещадно его тиранила.
В тот памятный апрельский день, когда лед, потрескивая и шурша, вовсю шел по Иртышу, дед Тимоша пораньше приехал с работы на обед и тут же приступил к дегустированию очередной партии браги, доспевавшей в сорокалитровой молочной фляге тут же, за печью на кухне. Вернее будет сказать, он хорошо надегустировался уже вчера, а сегодня решил поправить свое пошатнувшееся здоровье. Ну и вот, только он успел хлопнуть кружку-другую бражонки, как рассвирепевшая баба Дуся схватила эту флягу за ручки (а была она, баба Дуся то есть, нехилой комплекции) и поволокла ее на улицу со словами: «Все, Тимоша, достал ты меня, язви тебя-то! Щас все вылью, и будешь ты у меня теперь только чай хлебать!».
Дед Тимоша в ответ ничего не сказал. Он допил брагу из кружки, торопливо сунул ее в сразу же раздувшийся карман потертого пиджака, во второй – надкусанный соленый огурец, и последовал за бабой Дусей. А когда она вытащила флягу на улицу, в которой плескалось не менее литров тридцати браги, подскочил к ней и угодливо сказал: «Давай помогу, Дусенька!» И вместе с обалдевшей от такого поворота бабой Дусей подтащил флягу к стоящей у ворот повозке. Здесь он оттолкнул подругу дней своих суровых и, крякнув, взгромоздил алюминиевую емкость на телегу. Тут же, не мешкая, отвязал лошадь от забора, шустренько умостился рядом с флягой и дернул вожжами:
– Нно, милая, поехали!
Телега задребезжала по раскисшей улице в сторону складских помещений, где и трудился дед Тимоша.
– Вот-вот, там ты ишшо бражку с мужиками не пивал! – заголосила баба Дуся. – Я вот щас управу-то нашему скажу, как ты трудисся… с флягой! Он те ее на бошку-то наденет!
Услышав эту реальную угрозу, дед Тимоша резко развернул телегу и направил ее в сторону спуска к Иртышу.
– Илюха! – крикнул он уныло бредущему по дороге мужичку, примерно его возраста.
– А? – живо отозвался тот.
– Бражки хошь? Прыгай в телегу!
И вот их уже двое в повозке: один правит лошадью, второй черпает кружкой из фляги и мужики по очереди, на ходу, «заправляются» из нее.
– Куды ты, чумной? А ну вернись! – кричала баба Дуся, проявившая завидную для своей комплекции резвость и побежавшая за грохочущей телегой. Она непременно хотела вернуть домой вышедшего из подчинения непутевого супруга, и вряд ли кто сейчас остановил бы ее в этом праведном устремлении.
– А на кудыкину гору! – орал ей в ответ уже изрядно окосевший дед Тимоша. – Все, обрыдла ты мне. Хрена я вернусь домой!
Редкие деревенские прохожие изумленно смотрели вслед этой странной и резвой процессии. Но вот повозка достигла спуска к реке – Большого взвоза. Дед Тимоша, натягивая вожжи, притормаживал лошадь, и на берег они съехали довольно аккуратно. Но ход замедлили, и воспользовавшаяся этим баба Дуся стала сокращать расстояние, воинственно размахивая подобранной по дороге палкой.
– Каку холеру тебе на реке об эту пору надо, варнак ты этакий? – вопила она. – А ну ворочайся назад!
На реке пока точно делать было нечего – ледоход, хотя уже не такой плотный, как пару дней назад, еще продолжался. Какие-то льдины стремительно неслись по середине реки, а какие на ее повороте у Большого взвоза принесло к берегу, и они толклись в неспешном прибрежном водовороте. Дед Тимоша притормозил повозку у одной такой, довольно большой, размером метра два на полтора.
– Сгружаемся! – скомандовал он своему попутчику. Тот, допивающий очередную кружку браги, поперхнулся.
– Здеся? За каким лешим?!
– А вот увидишь, – довольно ухмыльнулся дед Тимоша. – Ты, Илюха, главное, мне подмогни. А сам потом можешь домой ворочаться. Ну или со мной. Бражки у меня еще много!
Последний аргумент возымел на известного в селе выпивоху безотказное действие. Вдвоем они сняли флягу с телеги, и затем дед Тимоша вытащил оттуда же вилы, которые всегда были при нем, чтобы при случае закинуть на сеновале пару-другую навильников сенца для свой коровки. Оглянувшись на спуск, по которому к ним спешила баба Дуся, неумолчно ругавшаяся и грозившая всеми карами своему непутевому мужу, он вилами придержал приглянувшуюся ему льдину.
– Волоки сюда флягу! – крикнул он Илюхе. – Помнишь, как в детстве катались? Вот и щас покатаемся. Только с канфортом!
– Ишь ты, чего удумал! – восхитился уже пьяненький Илья. – С канфортом! Это можно.
Вдвоем они быстренько перебазировались вместе с флягой на покачивающуюся льдину, дед Тимоша оттолкнулся от берега вилами, и они, на глазах хоть и подоспевшей, но таки опоздавшей бабы Дуси, поплыли.
– Вы куда, балбесы? Утопнете же! – горестно взывала она к благоразумию «папанинцев» на льдине.
– До свиданья, моя Дуся! Еду в Кайманачиху! – помахал ей свободной рукой дед Тимоша, в другой у него уже снова была кружка с брагой, услужливо подсунутая Ильей. – Как приеду, отпишу!
Дед Тимоша был родом из этой самой Кайманачиха, расположенной на противоположной стороне Иртыша, на расстоянии всего-то с полсотни километров вниз по реке. Уехал он оттуда еще по молодости, и его каким-то ветром занесло в наше село. Здесь обзавелся семьей, пустил, что называется, корни. Дети, уже взрослые, покинули родительское гнездо – дочь жила в Павлодаре, сын после армии остался где-то в России. И вот дед Тимоша как подопьет, так все порывался навестить свою родину. Да только вот вроде и недалеко, а добираться очень неудобно.
Надо было или переправляться на пароме у соседнего райцентра Иртышск, а оттуда уже на автобусе или попутке. Или пилить до ближайшего моста через реку в Павлодаре, а затем также на рейсовом автобусе в Кайманачиху, что вообще уже удлиняло путь за триста верст. Да и баба Дуся никуда его от себя одного никогда не отпускала, такая вот была собственница. А вдвоем никак: кто будет за хозяйством присматривать?
Проще было бы, имей дед Тимоша свою моторную лодку. Но у него ее сроду не было, не рыбак он был. Да и у местных рыбаков таких лодок было всего – раз-два, и обчелся. Все больше обходились самодельными деревянными. Но сейчас-то у деда Тимоши все срасталось: и от бабы Дуси вроде как оторвался, и плавсредством обзавелся. Неизвестно, правда, всерьез ли он намеревался уплыть на этой льдине да той самой Кайманичихи, что ждала его всего в полусотне верст вниз по реке уже столько лет, или просто по пьяни решил покуражиться. Но тем не менее вот он, стоит на льдине, и она его несет к желанной цели!
Баба Дуся шла рядом и от бессилия швыряла в экипаж маломерного «судна» обломками льда, дотаивавшего на берегу, и не совсем печатными словами. А мужички, почувствовав себя хозяевами положения, уселись рядом с флягой на корточки и, отпуская обидные замечания в адрес бабы Дуси, попивали бражку, передавая кружку друг другу.
– Ну все, Тимоша, надоел ты мне! Теперь хоть утопни, а я пошла домой! – в сердцах бросила она. И только баба Дуся произнесла это, как приподнявшийся с места, чтобы зачерпнуть бражки, Илюха потерял равновесие и повалился спиной на край льдины, не выпуская из руки ручки фляги. Посудина опрокинулась на него, поливая Илюху остатками содержимого, а льдина, понятное дело, накренилась, сбрасывая с себя совсем ненужный ей балласт.
– Ааа! – разнесся над рекой сдвоенный мужской вопль, и дед Тимоша с Илюхой суматошливо забарахтались в воде,
– То-то! – злорадно закричала обернувшаяся на шум баба Дуся! – Вот и плыви так в свою Кайманачиху!
Но спасать мужиков все же кинулась. Хотя что их было спасать – льдину неспешным в этом закругленном месте реки течением отнесло от берега недалеко, всего метра на два-три. Да и неглубоко тут было, так что, когда незадачливые и перепуганные путешественники встали наконец на ноги, воды им было по пояс. Но очень холодной! И потому они самостоятельно и спешно выбрались на берег. Ну а тут их взгрела палкой баба Дуся. Она загнала промокших и трясущихся от холода мужиков на телегу и повезла домой. Баба Дуся уверенно держала вожжи в руках, управляя лошадью. И при этом не забывала время от времени оборачиваться к седокам и ехидно спрашивать:
– Ну и как там, в Кайманачихе? Лучше чем у нас в Пятерыжске, ай хуже, а?
Дед Тимоша в ответ лишь виновато вздыхал, кряхтел и прятал глаза.
Но в Кайманачиху он потом все же съездил. Баба Дуся, проникшись, наконец, давнишней мечтой своего мужа, договорилась с соседкой, чтобы та посмотрела за их хозяйством – ну там коровку подоить, курам корма задать, и они вдвоем, наняв другого соседа, владельца «Москвича», таки съездили в ту Кайманачиху на пару дней. И потом баба Дуся говорила:
– Да чё там, в этой Кайманачихе? Така же деревня, как наша. Ну разве только побольше…
А дед Тимоша после той поездки ходил какое-то время просветленным и даже выпивать бросил. Правда, ненадолго. Пока не раздобыл новую флягу под бражку…
«Мы тут живем!..»
Действие происходит в семидесятые годы в прииртышском сельце Пятерыжск. Этот бывший казачий форпост стоит на правом крутом берегу Иртыша, а на левом, в пяти километрах, крупный районный центр Иртышск. Там есть базар, и туда по воскресеньям на телегах, через паромную переправу, ездят многие пятерыжцы торговать помидорами, рыбой, картошкой, молоком, маслом – кто чем богат. Обратно возвращаются, накупив на вырученные деньги сахар, муку, соль, детишкам – школьные вещи. Мужики обычно уже поддатые – пока жены расторговываются, они успевают не раз и не два смотаться за чекушкой, выцарапывая у своих супружниц мятые рубли буквально с боем.
Приехал с базара хорошо подогретым и дядя Саша Гергерт. Он был из поволжских ссыльных немцев, во время войны его мобилизовали в трудармию, он где-то валил лес, обратно вернулся с покалеченной ногой. Ходить дяде Саше было трудно, и он обзавелся личным конным экипажем взамен инвалидной мотоколяски. Он прекрасно обучился обращению с лошадьми, бричка у него была подрессоренная, на мягком ходу. Всегда смазанная, она шла ходко и практически бесшумно, если не считать характерного еканья лошадиной селезенки. Поддав, дядя Саша любил с шиком промчаться по пыльным пятерыжским улицам, при этом разбойно гикая и отчаянно, с неистребимым немецким акцентом, матерясь. Ему бы цыганом родиться. Да он, впрочем, и был каким-то нетипичным немцем – смуглым, с громадным вислым носом, пегими от седины кудрями. Не хватало только серьги в ухе.
Высадив жену с покупками у своего дома, дядя Саша хлестнул в воздухе кнутом (лошадей, надо отдать должное, он практически не бил, только пугал) и покатил в дальний конец деревни. Потом свернул на параллельную улицу и помчался в обратную сторону, оставляя за собой клубы пыли, а нередко и раздавленных куриц. Продольных улиц в деревне было всего три, и потому дядя Саша через каждые пять минут возвращался на свою и проносился мимо скорбно стоящей у кленового палисадника жены, тети Дуси.
– Саша, хватит, давай домой! – завидев его и вся подавшись вперед, кричала она дяде Саше. А тот, упиваясь захватившей его магией быстрой езды, уже не сидел, а стоял в бричке и, размахивая концами вожжей, орал что-то непотребное. Оскалившаяся лошадь была вся в мыле и громко храпела, но и ее сейчас никакая сила не могла остановить: оба они, и лошадь, и ее хозяин, были во власти скорости. Мгновение, и сдуревший экипаж оказывался на другом конце деревни. И так – несколько раз.
– Ах ты, фриц поганый! – бессильно проклинала своего непутевого супруга тетя Дуся, поправляя сползший с головы платок и возвращаясь на угол палисадника. Потом она все же додумалась распахнуть ворота настежь и выбежать на середину улицы, когда в конце нее снова показался лихой немецкий «казак» дядя Саша Гергерт.
– Саша-а! Сюда! Мы вот здесь, вот туточки живе-о-м! – пронзительно закричала она, одной рукой вздымая вверх свой яркий, только сегодня купленный на базаре платок, а второй указывая на распахнутые ворота – ну чисто уличный регулировщик. И повинуясь этому властному, и в то же время отчаянному жесту, экипаж на полном ходу влетел в распахнутые ворота, которые тетя Дуся тут же хлопотливо заперла, злорадно приговаривая:
– Ну, черт колченогий, сейчас ты у меня попрыгаешь!
И можно было не сомневаться: попрыгает!
Дед Репка
Эта невероятная история случилась в семидесятые годы в одном из совхозов на северо-востоке Казахстане. Деда Репку, беспросветно пьющего, нашли однажды дома посиневшим и бесчувственным. Он лежал ничком на кровати, а на полу валялись склянка с остатками какой-то вонючей жидкости.
Репку спешно доставили в совхозную амбулаторию. Повозившись с ним, местный врач Селиванов бессильно развел руками:
– Я сделал все, что мог. Его бы сразу в реанимацию…
Репку спешно повезли в районную больницу. Вернулся оттуда шофер Усольцев мрачным и подавленным.
– Ну, что? – увидев его, спросил председатель профкома Булыгин.
Усольцев безнадежно махнул рукой, хлопнул дверцей и укатил в поле – он работал на обслуживании бригады.
Булыгин пошел к заместителю директора по хозчасти Бейсембаеву.
– Слушай, Талгат Нугманович. Репка-то наш тю-тю! Приказал долго жить.
– Что, не откачали? Эх, люди, люди, что вы с собой делаете, – осуждающе покачал головой Бейсембаев, стараясь дышать в сторону.
– Так это, у него же никого нет, у Репки-то, – скорбно молвил Булыгин. – Значит, все расходы на похороны совхоз должен взять на себя.
– Надо так надо, – согласился зампохоз. – Ну да, пьяница был покойный, но все же жил и работал у нас долго. Даже, помнится, однажды благодарность получил. Что, Николай, Иванович, помянем деда?