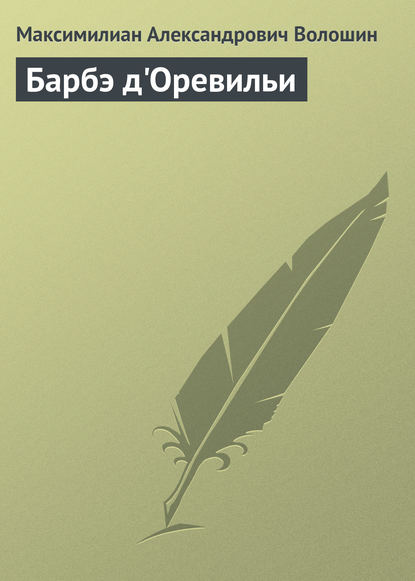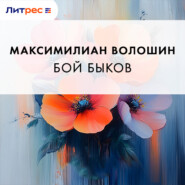По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Барбэ д'Оревильи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мне приходилось встречать Барбэ д'Оревильи во все эпохи моей жизни. Я имел честь сделать ему визит в его маленькой комнатке на улице Рус-селе, где тридцать лет прожил он в благородной бедности.
Барбэ д'Оревильи, одетый в красное, стоял гордый и великолепный в этой поблекшей и голой комнате. Надо было слышать, как произнес он эту трогательную ложь:
– Свою мебель и ковры я отправил в деревню.
Беседа его сверкала образами и неожиданными оборотами.
«Je tisonne dans vos souvenirs pour les ranimer… Vous regardez la lune, mademoiselle: c'est l'astre des polissons… Vous l'avez vu, terrible, la bouche ?br?ch?e comme la gueule d'un vieux canon…[25 - Я мешаю уголья в ваших воспоминаниях, дабы их оживить… Вы смотрите на луну, мадемуазель. Это звезда распутников… Вы увидели ее страшною, с пастью, зияющей, словно жерло старой пушки (франц.).]
…для Господа нашего Иисуса Христа большое счастье, что он был Богом; как человеку ему не хватало характера…».
Все это говорилось серьезным голосом, в котором, не знаю как, смешивались и ужасающе сатанинское, и очаровательно детское.
И это был старый господин лучшего тона, изысканно вежливый, с величественными манерами.
Без сомнения, он был необычаен. Но как Генрих IV на Pont-Neuf или пальма на крыше купальни Самаритен, он больше не удивлял. Его кафтаны, подбитые красным бархатом, казались чем-то, не скажу обычным, но необходимым.
В сущности, и это делало его столь безусловно любезным, он не хотел никогда никого ни удивлять, ни забавлять. Это он делал лишь для самого себя. Лишь для самого себя он носил и кружевные галстуки и манжеты, как. у мушкатеров. У него не было, как у Бодлэра, ужасного искушения изумлять, противоречить, вызывать антипатию.
Его странности никогда не носили характера враждебности. Он был естественно эксцентричен.
В жизни его есть темные периоды: про него утверждают, что в течение некоторого времени он был компаньоном торговца религиозными предметами в квартале Сен-Сюльпис. Не знаю, правда ли это. Но мне хотелось бы, чтобы это было так. Мне нравится, что этот тамплиер продавал четки.
В этом я нахожу забавное возмездие условному со стороны реальности.
Однажды я видел старого трагика в Одеоне, который с челом, увенчанным царскою повязью, и со скипетром в руке изображал Агамемнона. Мысль о том, что этот царь царей женат на театральной уврезке, наполнила меня извращенною радостью.
Представить себе Барбэ д'Оревильи, принимающим заказы монастырского белья, – в этом есть удовольствие еще более изысканное.
Но если подумать, то самое удивительное совсем не то, что д'Оревильи продавал стихари, а то, что он писал критические статьи. Однажды Бод-лэр, которого он третировал в своей статье как преступника и великого поэта, подошел к нему и, скрывая свое глубокое удовольствие, сказал:
– Милостивый государь, вы посмели коснуться интимной стороны моего характера. Если бы я потребовал вас за это к ответу, я поставил бы вас в довольно затруднительное положение, так как, будучи католиком, вы не принимаете дуэли.
«Monsieur, – сказал Барбэ: – страсти свои я ставлю всегда выше своих убеждений. Я к вашим услугам».
Он немного хвастался, говоря о своих страстях. Но, надо отдать ему справедливость, он никогда не колебался ставить свои фантазии выше здравого смысла. Двенадцать томов его критики – это самое своевольное, что было когда-либо вдохновлено капризом. Критика его полна гнева и бешенства, оскорблений, обвинений, богохульств и отлучений.
Она сыпет молнии и остается в то же время самым невинным созданием в мире. И здесь д'Оревильи спасен своим гением, своей счастливою ребячливостью. Он пишет, как ангел, как дьявол, во он сам не знает, что он говорит.
Что же касается до его романов, то они занимают место среди самых удивительных произведений нашего времени. Два из них, безусловно, шедевры в своем роде. Я говорю о «L'ensorcel?e» и об «Chevalier des Touches».
Стиль Барбэ д'Оревильи – это то, что меня удивляет больше всего: он неистов и нежен, груб и изыскан. Сен-Виктор сравнивал его с теми колдовскими напитками, куда входят одновременно цветы, змеиная слюна, мед и кровь тигра. Это адское питье; но оно по крайней мере не пресно.
Что же касается до философии Барбз, который был философом меньше, чем кто-либо из людей, то это приблизительно философия Жозефа де Ме-стра. Он прибавил к ней лишь богохульства.
О своей вере он заявлял при каждом удобном случае, но предпочтительно он исповедовал ее в богохульствах. Кощунство для него было приправой к вере. Как Бодлэр, он обожал грех.
Он знал лишь гримасу, лишь маску страсти. Он всегда впадал в кощунство, и ни один верующий не оскорблял Бога с таким усердием.
Не бойтесь. Этот великий богохульник будет спасен. В своей нечестивой дерзновенности тамбурмажора и романтика он сохранил божественную невинность, которая пред престолом вечной Мудрости заслужит ему прещение. Св. Петр скажет, увидавши его:
«Вот Барбэ д'Оревильи. Он хотел обладать всеми пороками, но не мог, потому что это очень трудно и для этого необходимы естественные склонности. Он очень любил драпироваться в преступления, потому что преступление живописно. Он остался самым светским человеком в мире, а житие его было почти монастырское. Правда, он иногда говорил отвратительные вещи; но так как он и сам в них не верил и никого не мог заставить поверить, то это оставалось только литературой, что извинительно. Шатобриан, который тоже был на нашей стороне, своей жизнью издевался гораздо более серьезно над нами».
Жюль Леметр
Барбэ д'Оревильи меня изумляет… и кроме того… он меня снова изумляет. Мне цитируют его слова поразительного остроумия, героического полета, которые блеск образа соединяют с неожиданностью мысли. Мне говорят, что он говорит всегда так, что он шествует сквозь жизнь, облеченный в нарочитый костюм, затянутый, надушенный, застывший в позе вечного рыцарства, непрерывного дендизма, непроходящей молодости. Это мастер слова красноречивый, обильный, пышный, изысканный, с султаном на шляпе, до редкости лишенный простоты… Он внушает мне самое почтительное уважение, но в то же время он меня смущает, пугает, повергает в изумление.
Это ее моя вина. Его высокомерные манеры, его громадные жесты, его своевольные пристрастия, его суеверные видения аристократизма, этот страх и любовь к сатане, этот католицизм, не прикрывающий никаких христианских добродетелей, эта выработанная несдержанность, эти вспышки гнева и негодования, эта гордость… все это мне невыразимо трудно принять.
То, что делает душу Барбэ д'Оревильи столь мало приемлемой для моего радушия, это совсем не то, что он является аристократом в веке мещанства, абсолютистом во времена демократии, католиком в эпоху атеистического знания (все это я вполне допускаю), неприемлема та манера, с которой он осуществляет все это. Мне ведомо, что не все души принадлежат эпохе, их породившей, и что есть между нами люди средних веков и Возрождения.
Признаюсь, что я даже очарован тем, что Барбэ д'Оревильи в одно и то же время и крестоносец, и мушкатер, и шуан. Но он осуществляет все это? такой преувеличенною яростью, с таким явным выставленным самодовольством, что он не таков, как мы, с таким громогласным афишированием, в такой безнадежно театральной обстановке, что недоверие охватывает меня, что та нежная внимательность, которая приподымалась уже во мне навстречу этому выгдлецу прошлых столетий, колеблется, смущается, переходит в удивление, и я вижу перед собой лишь напыщенного актера, опьяневшего от своей роли.
Самая великая и самая забавная из иллюзий Барбэ д'Оревильи – это, безусловно, его католицизм. Я думаю, что он действительно верит. По крайней мере, он громко исповедал все догматы и охотно изумляется «глубоким прозрениям церкви». Всякое иное учение, кроме католического, он признает отвратительным и извращенным. Наконец, он имеет претензию на целомудренность; в одном из своих романов он мужественно вычеркнул «три строчки неприличных подробностей», представляя себе, вероятно, что других подобных строк нет в его произведениях.
Но я не знаю ничего менее христианского, чем католицизм Барбэ д'Оревильи. Ов похож на перо на шляпе мушкатера. Я вижу, что г-н д'Оревильи носит Бога, как кокарду на своей шляпе. Но в сердце? Не знаю.
Все его творения проникнуты чувствами диаметрально противоположными тем, которые должен бы был испытывать истинный сын церкви. Грешники имеют всегда невыразимое очарование для Барбэ д'Оревильи. Он не допускает, чтобы грешник был ничтожеством. Он всегда снабжает их удивительными талантами. Он их видит грандиозными, он их любит, он удивляется им. Почти все герои романов, написанных этим христианином, – атеисты. Он созерцает их с ужасом, преисполненным тайной нежности. Он всегда очарован дьяволом.
Но если немного сомнения примешивается к его наивной и неудержимой симпатии к грешникам, то уже с полной беззаветностью, беспримесной любовью любит он и славит знаменитых денди, великих светских людей, глубоких виверов, непостижимых Дон-Жуанов.
Идеал его жизни сплавлен из Бенвенуто Челлини, герцога Ришелье и Джорджа Брёммеля.
Поль де Сен-Виктор
Воинствующая церковь не имела борца более дерзновенного, чем этот Тамплиер пера, чья наступательная критика есть постоянный крестовый поход. Непобедимый полемист, он является в то же время писателем гордым и оригинальным. Художника-крестоносца, изобретателя и стилиста в нем можно отделить от борца и метателя парадоксов. Французский язык еще никогда, быть может, не был доведен до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насильничества с деликатностью, горечи с утонченностью.
Это напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиной слюны, из крови тигрицы и меда.
Пеладан
Вот писатель-воин, которому консервативная партия отказалась дать войска. Без скипетра, без солдат, без одобрения короля и папы, в изгнании и в опале, этот католик с улицы Русселе был последним Хоругвеносцем церкви, последним великим видамом Франции.
Теоретик рухнувшей старины, естественному течению революции и ее завоеваниям противопоставил он свою бесполезную, но героическую смелость.
Творение д'Оревильи – это Роландов рог в Ронсевальской долине монархии, но император с седой бородой не придет плакать над богатырями. Сломанный Дюрандаль достался сарацинам.
Да. Слабый луч славы, который освещает эту память, это – справедливость врагов, удивление перед искусством. Его смерть не тронула никого из католиков: потому что официальный католицизм не больше признает Савонаролл, чем д'Оревильи: пламя одного и гений другого пугают косность этих факиров, ищущих совершенства в отречении от индивидуальности.
Своим убеждением осужденный защищать тех, кто отрекался от него, он на своей печати написал роковой девиз: «Too late» – Слишком поздно.
В Италии времен Возрождения проходят, борются и умирают десятки фигур, достойных цезарского венца, – Пантеон побежденных, но XIX век имеет лишь одного человека, равного им по несчастию – великого и непризнанного. Один лишь своим четверояким гением обличает неисцелимую глупость эпохи, которая удостаивает славы лишь после долгого грохота рекламы. Единый испил чашу клеветы и непризнания, и то был – Барбэ д'Оревильи.
notes
Сноски
1