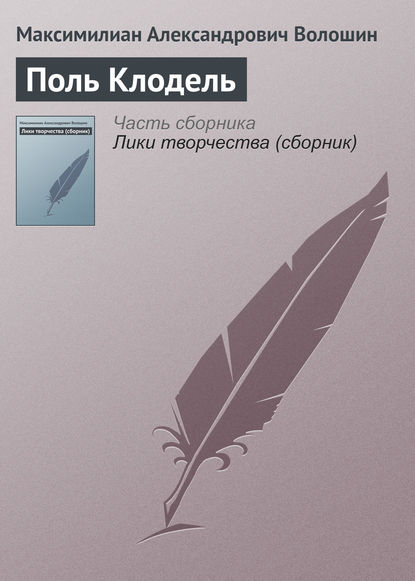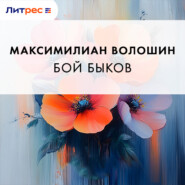По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поль Клодель
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И рядом с нею Клио, «наблюдательница и руководительница», муза, истории, «записывающая нашу тень».
После муз вдохновляющих черед муз вдохновенных – «работниц внутреннего звука».
Святая пламенница духа Эвтерпа подымает большую беззвучную лиру – сложный прибор пленения мысли, похожий на сручье ткача, – инструмент, который помогает произносить речи и составлять фразу, который помогает вдохновению и определяет соотношение и тождество.
Этот логический прибор приводит мысль к еще более простому и древнему инструменту мысли – к циркулю Урании.
Есть бездны, которых не осилить ни прыжку Терпсихоры, ни диалектике Эвтерпы, – «нужен угол, нужен циркуль, который властно раскрывает Урания», и нет такой системы мыслей, подобной группе отдаленнейших звезд, которую нельзя было бы измерить расходящимися ветвями циркуля, устремленными из одной точки, как протянутой рукой. Циркуль – знак числа, скипетр ритма: «и поэт не споет свою песню, если не будет в ней меры». «Ты, грамматик!» – восклицает в этом месте Клодель, обращаясь мысленно к своему творчеству, – «в стихах моих не ищи путей, ищи их сосредоточия». Эта мысль (которую мы уже комментировали выше) вызывает образ Трагедии, являющейся средоточием путей, ведущих со всех концов мира. Клио, записывающая пути судьбы, стоит на одном конце хоровода; Мельпомена – преображение судьбы в едином мгновении – на другом.
Трагедия – разрешение ряда судеб и случайностей в единой объединяющей формуле. Когда определен знак и час действия, «Парки во всех концах мира вербуют чрева, которые родят актеров, им нужных», и предназначенные судьбой актеры входят в мир «связанные с неизвестными фигурантами, которых они еще узнают и которых они не узнают никогда, с теми, которые выступят в прологе, и с теми, что явятся лишь в последнем, акте». Создание поэмы подобно развитию трагического процесса в человечестве: мысли ничего не знают друг о друге, но связаны тайными нитями, и поэт – предводитель хора – должен обучить их, как актеров, так, чтобы каждая появлялась и уходила, когда надо.
Так проходит перед слушателями весь хор муз: рождающая Мнемозина; выявляющая Терпсихора; наблюдательница Талия; записывающая Клио; Эвтерпа, мерящая вселенную мыслью; Урания, измеряющая ее пропорции числом, и трагическое сосредоточие жизни – Мельпомена.
И вот наступает черед той, которая стоит в самой середине хора, обернутая с ног до головы покрывалом, как певица. Полимния – муза человеческого голоса. Когда человек сам становится инструментом и смычком, – «тело очищается от своей глухоты, и сознающий себя зверь звенит в переливах его крика». Песня этой музы голоса творит словом. Как Господь, творя мир, называя каждую вещь, говорил: «да будет», так поэзия-Полимния говорит каждой вещи – «да пребывает», и в сладостном перечислении, возвещая имя каждой вещи, именем таинственно утверждает ее в самой ее сущности.
Поэт должен уметь сказать то, что каждая вещь «хочет сказать».
«Есть неистощимое торжество жизни; есть целый мир, который должен быть восполнен; есть ненасытимая поэма, которую суждено питать сборами всех жатв и всеми плодами.
– Земле я оставляю эту задачу; сам же улетаю к пространству, открытому и пустому».
Этими словами заканчивается повествовательно-философская часть оды, и под ногами читателя один за другим разверзаются два лирических провала.
Утомленная отвлечениями мысль возвращается к самой конкретной из муз – к Терпсихоре. Терпсихора безумна и пьяна не чистой водой и не воздухом вершин, а красным вином и алыми розами, липкими от меда. Вся горячая, вся умирающая, вся истомившаяся, она протягивает руку поэту. Муза становится женщиной. Только что отвлеченные функции муз объединялись найденным именем, звучавшим в голосе Полимнии; теперь совершается воплощение, более полное и совершенное: творчество становится женственностью, мрамор становится плотью, богиня шепчет слова страсти:
«Слишком, слишком долго ждать! Возьми меня! Разве ты не понимаешь, что желание мое от тебя? Возьми меня, потому что я не могу больше…».
Поэт чувствует физическое прикосновение ее руки к своей руке, и от этого прикосновения распадается видение; он остается один, отвергнутый, брошенный во вне – посредине мира.
Тогда в порыве тоски, охваченный одиночеством, он подымает последнюю завесу души. Срединное пламя страдания, к которому со всех сторон вели пути всех муз. И античный саркофаг, и сложный механизм творческого восторга, и ритмические соотношения одной музы к другой – забыты. В ожившем мраморе Терпсихоры скользнуло нечто слишком личное, слишком интимное, слишком человеческое. Это уже не Терпсихора. В лике ее он узнал черты той, которая была с ним на корабле, когда он покидал Европу, и явилась ему «Музой в морском ветре, косматою мыслью на носу корабля».
Они были одни друг с другом, потерянные в чистом пространстве, где самая почва – свет. Они плыли на восток; а на западе, в той стороне, откуда они плыли, разгоралось каждый вечер «зарево, насыщенное всем настоящим, Троя реального мира, охваченная пламенем».
Эта смутная мысль о Европе, которую он покидает, как Эней, на корабле, «нагруженном грядущими судьбами Рима», вырывает у сдержанного и строгого Клоделя гордое самопризнание:
«Я – фитиль мины, тлеющий под землей. Этот тайный огонь, который меня точит, разве не запылает он в ветрах? Кто вместит великое человеческое пламя?»
Но экстаз любви вдруг прерывается словами: «О обида! О возмездие!». Что произошло? «Разве не чувствуешь ты моей руки на своей?» – И он, действительно, почувствовал ее руку на своей руке… И, обернувшись, увидел, что он отвергнутый, брошенный, один посредине мира.
«Эрато! Ты глядишь на меня, и я читаю приговор в твоих глазах… Ответ и вопрос в твоих глазах»…
Имя Эрато произносится впервые в последних строках оды. Она изображена в хороводе Девяти, но Клодель намеренно ни разу не назвал ее; даже ее лиру он передал в руки Эвтерпы. Но на боковом рельефе саркофага есть отдельное изображение Эрато, о котором было упомянуто. Она стоит перед Сократом, опершись на алтарь; на голову ее закинут край одежды, и руки, и стан ее, и часть алтаря покрыты складками широкой хламиды. Сократ приподнял руку и как бы вопрошает ее. Она, обернувшись вполоборота, пристально смотрит ему в глаза тем вопрошающим и упорным взглядом, в котором уже заключен ответ, – взглядом, пластически передающим тот внутренний и как бы чужой голос, который четко и ясно дает ответ в глубине души в то мгновение, когда вопрос осознан до конца.
Эрато – муза философии, но она же муза любви.
«Тебе судьба вручила жребий влюбленных, – говорит поэт Аполлоний, – твоими заботами смягчаются неукротимые души девственниц, от имени Эрота твое благозвучное имя»…
Раскрываются три последние ступени творчества: слово, женственность, любовь.
Таким образом, вот порядок, в котором для Клоделя раскрывается тайна единства муз («Ничто не могло бы существовать, если бы вас не было девять!»):
Мнемозина – память; Талия – наблюдение; Клио – запись; Эвтерпа – Диалектика; Урания – ритм; Мельпомена – трагическое единство; Полимния – поэзия; Терпсихора – женственность; Эрато – любовь.[1 - Следует отметить, что в этой системе Клоделем совершенно упущено имя Каллиопы, музы эпической поэзии и старшей из муз для древнейших греческих поэтов. Клодель Каллиопу заменил Мнемозиной и имел, думается, на это внутреннее право, так как в своем делении на место внешнего проявления муз он ставил повсюду их творческую сущность: хоровод девяти не мог бы представить для него совершенного единства, если бы в нем отсутствовала скорбная муза времени – Мнемозина.]
II. Клодель в Китае
I
Экзотизм в романтическом искусстве был голодом по пряностям. Художник, пресыщенный отслоениями красоты в музеях и бытом отстоявшейся культуры, искал новых вкусовых ощущений – более терпких, более – острых. Экзотика чаще служила художнику ядом сознания, возбудителем чувствительности, чем здоровой пищей духа.
Эта экзотика девятнадцатого века явилась перенесением в область мечты и слова той страсти к географическим приключениям, которыми ознаменованы первые века новой истории. Когда иссякли века путешествий и открытий, тогда все, что было деянием, стало только мечтой, претворилось в литературу.
Лишь с тропических пейзажей Бернардена де Сен-Пьера и Шатобриана, с разымчивой чувственности креола Парни, да с усталой улыбки-островитянки Жозефины Богарнэ на портретах Прюдона, начинается в искусстве то, что мы вправе назвать экзотикой. И это уже начало романтизма.
Романтизм, введший в моду гашиш и опиум, чувствовал пристрастие к ядам старым и настоявшимся. Источником его экзотизма послужил! ближний Средиземноморский Восток: байроновская Турция, байроновская Греция. Мостом к этому востоку для французских романтиков была Испания, куда был кинут превратностями наполеоновских войн ребенок Гюго, увезший оттуда не знание страны, но память звучных имен и рыцарственных жестов, воплотившихся позже в Эрнани и Рюи Блазе. (Вспомните, что «Эрнани» – не имя человека, а название почтовой станции на пути Бордо-Мадрид).
Романтизм создал лжевосточный стиль – «ориентализм». Хотя Жерар де Нерваль видел Каир интимнее, а Теофиль Готье – Константинополь – реальнее других романтиков, но и они не проникали за пределы цвета и формы.
В романтической живописи трагический Восток Делакруа соответствовал своим пафосом стилю Виктора Гюго, а пейзажи Декана напоминал четкие описания Теофиля Готье.
В этом экзотическом возбудителе Востока нуждалась не только романтическая жажда страстей, но и романтический неокатолицизм, памятником чего осталась, так сказать, христианская экзотика, «Martyres» и «Itinеraire» Шатобриана и «Путешествия» Ламартина.
Второе поколение романтиков – реалисты и парнасцы – более психологически и более археологически подошли к Востоку.
Италия для Стендаля, Испания и славяне для Мериме играли ту же роль, что Карфаген для Флобера и Персия для Гобино.
В тропической экзотике Леконта де Лиля и Эредиа романтизм смешан с воспоминаниями детства и тоской по родине. Несмотря на всю сдержанность парнасского рисунка, самые краски их – патетическая исповедь.
Поколение, предшествующее нашему, выросло на сладостной экзотике Пьера Лоти, который, не оставаясь в пределах старого средиземноморского мира романтиков и древних тропических цивилизаций парнасцев, охватил все меридианы и все широты земного шара – и Дальний Восток, и Ближний, и юг, и север, и Океанию. В известном смысле Лоти явился завершителем и синтезом всей романтической экзотики, совмещая в себе как ее основные недостатки, ставшие под его пером карикатурными, так и достоинства.
Известное однообразие метода проникновения в душу малоизвестных народностей посредством поцелуев и объятий, чувство «цвета и формы», сведенное к прикосновениям «трепетной плоти» всех цветов и оттенков, – это несомненно горестные приемы романтизма у Лоти. Но этот морской офицер с наивной бретонской душой, который стал романистом от морской скуки в дальних плаваниях, обладает редким даром изобразительности, и у него есть страницы описаний, которые могут выдержать соседство лучших страниц Шатобриана и Флобера. Ориентализм Динэ в живописи составляет удачное соответствие стилю Лоти в литературе. Этот жанр уже скомпрометирован, и, конечно, не Клоду Фарреру, пытающемуся придать ему остроту извращенного эстетства Ж. Лоррэна, – спасти его.
Экзотизм романтиков, который наполнил собою все девятнадцатое столетие от одного края до другого, был основан почти целиком на чувстве зрения. Для романтиков видимый мир со всеми своими оттенками и переливами начал существовать как бы впервые, и расцвет географического экзотизма был следствием этого открытия. Отсюда и эти постоянные соответствия литературы и живописи.
Между тем уже с семидесятых годов во Францию стали проникать иные веяния, для нее являвшиеся тоже экзотическими. С одной стороны психологический русский роман. Фантастичность русской совести и необычайность славянской души – для французов имели прелесть самой жгучей экзотики. Нынешние успехи русской музыки в Париже свидетельствуют о тех экзотических опьянениях, которые таятся для них в русском искусстве. С другой стороны открытие архаической Греции перевернуло, отчасти разрушило, а еще больше оплодотворило все французские представления об античности и классицизме, и сюда, в область наиболее чуждую понятию экзотизма, внесло его пьянящий аромат и терпкий вкус восточной культуры. «Achille vengeur» Сюареса и «Музы» Клоделя свидетельствуют об этом. После Пьера Луиса, сыгравшего роль Лоти, со всеми его достоинствами и слабостями, по отношению к античному миру – Сюарес и Клодель – это начало новой эры классицизма. «Местный колорит» романтиков постепенно уступал документам национального стиля.
Вкус к дальнему Востоку стал возникать во Франции со времен Гонкуров. Уже Булье делал удачные стихотворные имитации китайской поэзии. Жюдит Готье, обладавшая необычайными для французского литератора знаниями японского и китайского языков, в своих исторических романах открыла новые пути восточной экзотике, основанной на глубоком понимании национального фольклора. Япония торжествовала в живописи импрессионистов.
Символизм до известной степени был лишь реакцией против зрительной изобразительности, к которой привела «couleur locale»[2 - местный колорит (франц.).] романтиков, зашедших в тупик театральных декораций.
Первое поколение символистов опьянялось и острыми впечатлениями обыденности, которую открыли импрессионисты, и народной песней, и фольклором, и оккультизмом, и христианской мистикой, и неокантианством, и археологией, и Византией. Искание новых стран было в крови символистов; Артюр Рембо променял литературу на Африку и богатство рифм на слоновую кость и золото, потому что искал не столько новых материалов для искусства, сколько новых форм жизни, реально осуществив судьбу ибсеновского Пер-Гюнта. Это было знаменательно. Но для этого поколения в близком окружающем открылось слишком много нового для того, чтобы искать его в далеких странах.
Во втором поколении символистов, одновременно и в литературе, и в живописи, возникают – два художника, которые, почти в одно и то же время, покидают Францию для поисков новой духовной родины и уезжают в противоположные стороны земного шара – Гоген на Таити, Клодель в Китай. Оба они едут не за запасом новых наркотиков, как романтики, а в поисках первобытной и здоровой человеческой пищи. Они не вернутся в Париж для разработки добросовестно собранных коллекций и впечатлений, как это делали и романтики, и парнасцы; они покидают Европу совсем и едут жить в избранные ими страны.
Гоген и Клодель не схожи друг с другом, ни по своим задачам, ни по характеру таланта, – но тем ярче встает единство той новой ступени сознания, которую они означают.
Гоген – покидает Европу зрелым мужем, законченным мастером, уже создавшим свою школу, которая осталась в истории живописи под именем «Понтавенской», и уезжает в Океанию, неволимый чувством, которое в основе похоже на то, что заставило Льва Толстого идти к мужику, искать опрощения. Разница лишь в том, что Гоген искал первооснов эстетических, а не моральных, и что Толстому достаточно было выйти за ворота яснополянского сада, чтобы найти первоисточник мудрости в душе мужика, тогда как Гогену приходилось ехать за своим «мужиком» на другое полушарие к антиподам Парижа. Клодель же – юноша, насыщенный идеологиями всех человеческих культур, прошедший сквозь эстетическую дисциплину Маллармэ, еще не проявивший себя в искусстве, с надменным пренебрежением к судьбе своих произведений уезжает в Китай на консульскую должность без всяких мыслей об «опрощении», но для того, чтобы создать себе уединение от Европы и проникнуться новыми системами познания, новой логикой искусства.
И тот, и другой одинаково означили своим бегством новое отношение Европейца к земле и человеку. За девятнадцатый век спираль духа сделала полный оборот и привела к тому же меридиану, но на иной широте. Историкам литературы еще предстоит исследовать соответствия между Робинзоном, естественным человеком Руссо – с одной стороны, и «Ноа-Ноа» Гогена – с другой, между Клоделем в Китае и Шатобрианом в Америке.