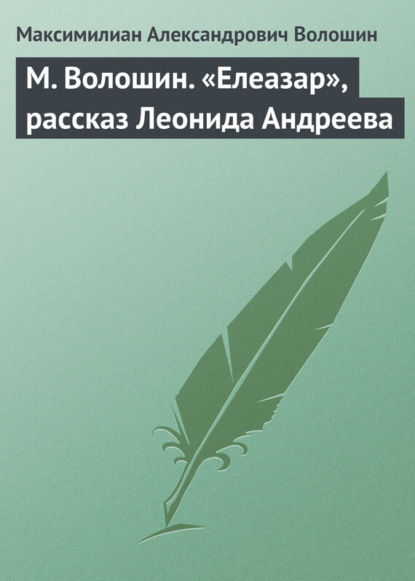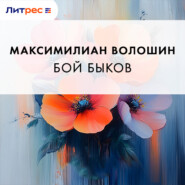По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
М. Волошин. «Елеазар», рассказ Леонида Андреева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И песни небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
Или, как говорит Эвридика Орфею в стихотворении В. Брюсова:
Ах! что значат все измены
Знавшим тайну тишины!
Что весна, – кто видел севы
Асфоделевой страны!
У андреевского Елеазара нет ничего этого. По ту сторону он ничего не видел, и ему нечего рассказать о тайнах иного мира, если бы он и мог говорить. Это просто труп, в котором приостановлен процесс разложения. Ужас андреевского рассказа зародился в анатомическом театре, а не в трагедии человеческого духа.
Чуда воскресенья, совершившееся над Елеазаром, является не радостным евангельским обетом, а какой-то диаболической силой, которая трупу вернула жизненную силу, но не могла вселить в него отлетевший дух.
Рассказывается некий медицинский случай, аналогичный «Случаю с г-ном Вальдемаром» в рассказе Эдгара По, в котором сила магнетизера приостанавливает действие смерти на физическую оболочку человека и мертвому телу оставляет способность речи. Когда же через несколько месяцев над трупом производят разрешающие пассы, то труп тут же разлагается и расплывается под руками гипнотизера.
И академично-трагический Лазарь Дьеркса, и карикатурно-чудовищный Елеазар Леонида Андреева несут в себе какое-то оскорбительное кощунство.
Где же Христос? – хочется спросить и того и другого.
Как бы ни смотреть на Евангелие от Иоанна, принимая его как книгу божественную или как гениальную мистическую поэму, – образ воскресшего Лазаря для нас неразделен с чудом Христа. Для неверующего так же, как в для верующего, в таком трактовании Лазаря кроется нечто оскорбительное.
Поверим ли мы в чудо, совершенное над Лазарем, как обетование и прообраз воскресения или примем толкование гностиков, утверждавших, что Лазарь – это сам евангелист Иоанн и что смерть его – это символическое описание его посвящения в христианские мистерии, главный акт которых состоял в трехдневном пребывании во гробе и духовном воскресении. Образ Лазаря, которому Христос сказал: «Я – воскресение и жизнь», настолько связан с самим Христом, что художественная правда требует, чтобы описанная нам трагедия его последующей жизни была так или иначе связана с воскресением самого Христа.
Внутреннее чувство еще может принять театральные жесты Лазаря, «очи которого не могли забыть сияния вечного света», и совершенно отказывается оправдать этот полусгнивший труп, сорвавшийся с какого-то дьявольского маскарада в своей пестрой свадебной одежде.
Леонид Андреев напоминает мне одновременно двух германских художников: Матиаса Грюневальда и Франца Штука.
Матиас Грюневальд, кольмарский мастер XVII века, которого в настоящее время ставят наравне с Дюрером и Гольбейном, писал картины страстей Христовых, на которых изображение изуродованного и разлагающегося тела доведено до конечных граней реализма. С пронзительной четкостью выписывал он синеватые, багровые, обветренные раны на ногах в на ладонях, синие следы бичевания, запекшиеся язвы тернового венца, зеленоватые и коричневые слои разлагающегося мяса и окостеневшие пальцы. И в то же время он был настолько живописцем, что из этих картин гниения, от которых веет трупным запахом, он создавал дивные колоритные симфонии. В своих картинах он переживал свою собственную Голгофу. Его картины производят впечатление самобичевания. Это стигматы святого Франциска. И каждая картина его говорит: «А все-таки тело воскреснет, ибо Я есмь Воскресенье и Жизнь». Точно такое же впечатление производят и жестокие «Распятия» испанских скульпторов. Леонид Андреев не с меньшим реализмом и не с меньшей жестокостью изображает смерть, которая является ему тоже в облике анатомического театра. Тот же трупный запах витает и над его «Красным смехом», и «Жизнью Василия Фивейского», и «В тумане», и «Елеазаром». Но за анатомическим театром у него нет никаких дорог. Художник не имеет права безнаказанно и бессмысленно истязать своего читателя. В художественном произведении всегда должно быть внутреннее равновесие. Всякий ужас допустим, но он должен быть оправдан внутренним чувством, как у Матиаса Грюневальда или в том стихотворении Некрасова, которое было им написано по возвращении с похорон Добролюбова:
Схоронен ты в морозы трескучие,
Жадный червь не коснулся тебя…
… Только стали длинней и белей
Пальцы рук на груди твоей сложенных,
И сквозь землю проникнувшим инеем
Убелил твои кудри мороз.
Да следы положили чуть видные
Поцелуи суровой зимы
На уста твои плотно сомкнутые
И на впалые очи твои.
Здесь есть полное ощущение смерти и трупа, но примиренное торжественною грустью успокоения.
Леонид Андреев же дает только ужас трупа, идея же смерти совершенно чужда ему. Он оскорбляет таинство смерти.
И тут начинается сходство Леонида Андреева с Францем Штуком, развязным и размашистым живописцем, который из тонких бёклиновских проникновений и модного декадентства создал производство en gros [оптом – франц.] блестящих и наглых полотен, бьющих сильно по нервам, ослепляющих своим шиком и оскорбляющих мещанский вкус европейской публики как раз в меру для того, чтобы заставить всех уверовать в свою гениальность.
Леонид Андреев, конечно, не имеет ни развязности, ни наглости Франца Штука. Но и в дурном вкусе, и в отсутствии меры, и в выборе тем и у него, и у другого есть много общего. Оскорбления, получаемые от того и от другого, очень похожи.
У Леонида Андреева совершенно нет той внутренней логики, которая должна лежать в основе каждого фантастического произведения, чтобы оно было убедительным. Эта логика в высшей степени есть у Эдгара По, Вилье де Лиль-Адана и Уэльса.
Описывая состояние тех, которые были омертвлены взглядом Елеазара, Л. Андреев дает описание той области естества, которая в средневековой магии была известна под именем астрального мира.
В этой области время перестает быть потоком, уносящим человеческое сознание вместе с собой, а становится неподвижным измерением – тем, что для нас теперь пространство.
Текучая последовательность разрозненных мгновений, сменяющихся с момента рождения до момента смерти, в астральном мире становится непрерывной цельностью. Человек в момент перехода в этот мир сразу сознает всю свою жизнь от рождения и до смерти как единое тело свое.
«И не стало времени, и сблизилось начало вещи с концом ее: еще только строилось здание и строители еще стучали молотками, а уж виднелись развалины на месте его и пустота на месте развалин. Еще только рождался человек, а над головой его зажигались погребальные свечи, и уже тухли они, и пустота становилась на месте человека и погребальных свечей».
В словах этих есть внутреннее противоречие.
Если мы примем это душевное состояние как пространственное представление об остановившемся времени, то не может возникнуть ужаса равнодушия и пустоты, в котором хочет убедить нас Л. Андреев, ибо подобно тому как весь физический мир покоится во времени, точно так же время, как в колыбели, покоится в нашем самосознании. В самосознании же человек находит не ужас тщетности и пустоты, а полноту чувства и жизни.
Если же понять слова Л. Андреева более буквально, то этот ужас, по его мнению, заключается в усилении темпа времени. Ускорение же течения времени, как чувствовал не раз каждый, логически связано с интенсивностью и полнотой жизни. Психологические возможности, вытекающие из гипотезы об ускорении времени, можно найти блестяще изложенными в рассказе Уэльса «Ускорители времени».
Способность предвиденья таит в себе глубочайшие ужасы. Но они кроются не в ином способе воспринимать явления, происходящие во времени.
Несколько лет назад на меня произвела очень глубокое впечатление действительная история одной женщины, которая страдала особого рода ясновидением. Она видела за несколько часов, несколько минут вперед все мелкие, самые обыкновенные и будничные события своей жизни. Все мелочи были ей известны заранее. Она страдала от этого невыносимо и несколько раз покушалась на самоубийство. Ее предвиденья прекращались только во время ее беременности, но с рождением ребенка возобновлялись, усугубляясь еще тем, что она знала за несколько часов вперед не только каждое свое движение, но и каждый момент в жизни своих детей и близких.
Ей удалось умертвить себя. В письме, оставленном на имя своего врача, она писала: «Вы никогда не стали бы удерживать меня от самоубийства, если бы знали всю муку моей жизни. Я живу все время отделенная от мира людей, но в нем. Я знаю и вижу чужие радости и страдания, но сама лишена их. Я давно умерла и только случайно осталась среди живых».
В этом психиатрическом факте я вижу весь тот ужас, который Л. Андреев хотел и не смог передать в своем Елеазаре.
Неизбежное знание всех мелочей и случайностей жизни за несколько часов, за несколько дней до их осуществления может убить жизненную волю человека. Но видеть человека одновременно рождающимся младенцем и умирающим стариком – это не ужас, а мудрость, и в таком созерцании таятся все истинные радости познания.
Л. Андреев построил свой ужас времени на том, что называется «дурной бесконечностью», т. е. на беспрерывном повторении одного и того же. «Дурная бесконечность» была бы невыносима для человеческого познания, если бы в человеке, познавшем ее количественно, этим самым не раскрывался внутренний путь в новую бездну – в новое измерение.
Так пространственная бесконечность была бы для нас невыносима, если бы у нас не было представления о времени, которое позволяет нам двигаться в пространстве.
Точно так же невыносимая для слепого ума бесконечность во времени примиряется в самосознании человека, которое позволяет ему двигаться по всему пространству времени силою своих воспоминаний.
Тот ужас, который лучился из глаз Елеазара, – не ужас, а освященный дар, высшая интеллектуальная радость человека.
Л. Андреев стоял на верной дороге в своем наблюдении над свойствами предвиденья, но со штуковской размашистостью из предвиденья на несколько часов вперед он сделал предвиденье всей вечности, и получилась бутафорская и смешная ложь.
Талант Леонида Андреева представляется мне в виде тысячегранного глаза мухи. В тысяче различных обликов, тысячью граней своего зеркала четко отражает он остроту действительности.
Но это полное тысячегранное восприятие рождает в нем только одну эмоцию ужаса и бессмысленности. Его глаз не соединен с его самосознанием.
Поэтому и «Елеазар», и «Красный смех», и «Жизнь Василия Фивейского» производят впечатление богохульства.
Богохульства, но не богоборства.
Богоборцы – титаны, которые громоздят Оссу на Пелион, чтобы низвергнуть олимпийских богов и самим стать на их место.
Богоборец тот, кто низвергает бога во времени во имя иного бога, носимого им в душе, во имя того бога, про которого сказано:
«Я – твой бог, и да не будет тебе иных богов кроме твоего Я».
«Не сотвори себе кумира ни на небесах, ни на земле».
Ей скучные песни земли.
Или, как говорит Эвридика Орфею в стихотворении В. Брюсова:
Ах! что значат все измены
Знавшим тайну тишины!
Что весна, – кто видел севы
Асфоделевой страны!
У андреевского Елеазара нет ничего этого. По ту сторону он ничего не видел, и ему нечего рассказать о тайнах иного мира, если бы он и мог говорить. Это просто труп, в котором приостановлен процесс разложения. Ужас андреевского рассказа зародился в анатомическом театре, а не в трагедии человеческого духа.
Чуда воскресенья, совершившееся над Елеазаром, является не радостным евангельским обетом, а какой-то диаболической силой, которая трупу вернула жизненную силу, но не могла вселить в него отлетевший дух.
Рассказывается некий медицинский случай, аналогичный «Случаю с г-ном Вальдемаром» в рассказе Эдгара По, в котором сила магнетизера приостанавливает действие смерти на физическую оболочку человека и мертвому телу оставляет способность речи. Когда же через несколько месяцев над трупом производят разрешающие пассы, то труп тут же разлагается и расплывается под руками гипнотизера.
И академично-трагический Лазарь Дьеркса, и карикатурно-чудовищный Елеазар Леонида Андреева несут в себе какое-то оскорбительное кощунство.
Где же Христос? – хочется спросить и того и другого.
Как бы ни смотреть на Евангелие от Иоанна, принимая его как книгу божественную или как гениальную мистическую поэму, – образ воскресшего Лазаря для нас неразделен с чудом Христа. Для неверующего так же, как в для верующего, в таком трактовании Лазаря кроется нечто оскорбительное.
Поверим ли мы в чудо, совершенное над Лазарем, как обетование и прообраз воскресения или примем толкование гностиков, утверждавших, что Лазарь – это сам евангелист Иоанн и что смерть его – это символическое описание его посвящения в христианские мистерии, главный акт которых состоял в трехдневном пребывании во гробе и духовном воскресении. Образ Лазаря, которому Христос сказал: «Я – воскресение и жизнь», настолько связан с самим Христом, что художественная правда требует, чтобы описанная нам трагедия его последующей жизни была так или иначе связана с воскресением самого Христа.
Внутреннее чувство еще может принять театральные жесты Лазаря, «очи которого не могли забыть сияния вечного света», и совершенно отказывается оправдать этот полусгнивший труп, сорвавшийся с какого-то дьявольского маскарада в своей пестрой свадебной одежде.
Леонид Андреев напоминает мне одновременно двух германских художников: Матиаса Грюневальда и Франца Штука.
Матиас Грюневальд, кольмарский мастер XVII века, которого в настоящее время ставят наравне с Дюрером и Гольбейном, писал картины страстей Христовых, на которых изображение изуродованного и разлагающегося тела доведено до конечных граней реализма. С пронзительной четкостью выписывал он синеватые, багровые, обветренные раны на ногах в на ладонях, синие следы бичевания, запекшиеся язвы тернового венца, зеленоватые и коричневые слои разлагающегося мяса и окостеневшие пальцы. И в то же время он был настолько живописцем, что из этих картин гниения, от которых веет трупным запахом, он создавал дивные колоритные симфонии. В своих картинах он переживал свою собственную Голгофу. Его картины производят впечатление самобичевания. Это стигматы святого Франциска. И каждая картина его говорит: «А все-таки тело воскреснет, ибо Я есмь Воскресенье и Жизнь». Точно такое же впечатление производят и жестокие «Распятия» испанских скульпторов. Леонид Андреев не с меньшим реализмом и не с меньшей жестокостью изображает смерть, которая является ему тоже в облике анатомического театра. Тот же трупный запах витает и над его «Красным смехом», и «Жизнью Василия Фивейского», и «В тумане», и «Елеазаром». Но за анатомическим театром у него нет никаких дорог. Художник не имеет права безнаказанно и бессмысленно истязать своего читателя. В художественном произведении всегда должно быть внутреннее равновесие. Всякий ужас допустим, но он должен быть оправдан внутренним чувством, как у Матиаса Грюневальда или в том стихотворении Некрасова, которое было им написано по возвращении с похорон Добролюбова:
Схоронен ты в морозы трескучие,
Жадный червь не коснулся тебя…
… Только стали длинней и белей
Пальцы рук на груди твоей сложенных,
И сквозь землю проникнувшим инеем
Убелил твои кудри мороз.
Да следы положили чуть видные
Поцелуи суровой зимы
На уста твои плотно сомкнутые
И на впалые очи твои.
Здесь есть полное ощущение смерти и трупа, но примиренное торжественною грустью успокоения.
Леонид Андреев же дает только ужас трупа, идея же смерти совершенно чужда ему. Он оскорбляет таинство смерти.
И тут начинается сходство Леонида Андреева с Францем Штуком, развязным и размашистым живописцем, который из тонких бёклиновских проникновений и модного декадентства создал производство en gros [оптом – франц.] блестящих и наглых полотен, бьющих сильно по нервам, ослепляющих своим шиком и оскорбляющих мещанский вкус европейской публики как раз в меру для того, чтобы заставить всех уверовать в свою гениальность.
Леонид Андреев, конечно, не имеет ни развязности, ни наглости Франца Штука. Но и в дурном вкусе, и в отсутствии меры, и в выборе тем и у него, и у другого есть много общего. Оскорбления, получаемые от того и от другого, очень похожи.
У Леонида Андреева совершенно нет той внутренней логики, которая должна лежать в основе каждого фантастического произведения, чтобы оно было убедительным. Эта логика в высшей степени есть у Эдгара По, Вилье де Лиль-Адана и Уэльса.
Описывая состояние тех, которые были омертвлены взглядом Елеазара, Л. Андреев дает описание той области естества, которая в средневековой магии была известна под именем астрального мира.
В этой области время перестает быть потоком, уносящим человеческое сознание вместе с собой, а становится неподвижным измерением – тем, что для нас теперь пространство.
Текучая последовательность разрозненных мгновений, сменяющихся с момента рождения до момента смерти, в астральном мире становится непрерывной цельностью. Человек в момент перехода в этот мир сразу сознает всю свою жизнь от рождения и до смерти как единое тело свое.
«И не стало времени, и сблизилось начало вещи с концом ее: еще только строилось здание и строители еще стучали молотками, а уж виднелись развалины на месте его и пустота на месте развалин. Еще только рождался человек, а над головой его зажигались погребальные свечи, и уже тухли они, и пустота становилась на месте человека и погребальных свечей».
В словах этих есть внутреннее противоречие.
Если мы примем это душевное состояние как пространственное представление об остановившемся времени, то не может возникнуть ужаса равнодушия и пустоты, в котором хочет убедить нас Л. Андреев, ибо подобно тому как весь физический мир покоится во времени, точно так же время, как в колыбели, покоится в нашем самосознании. В самосознании же человек находит не ужас тщетности и пустоты, а полноту чувства и жизни.
Если же понять слова Л. Андреева более буквально, то этот ужас, по его мнению, заключается в усилении темпа времени. Ускорение же течения времени, как чувствовал не раз каждый, логически связано с интенсивностью и полнотой жизни. Психологические возможности, вытекающие из гипотезы об ускорении времени, можно найти блестяще изложенными в рассказе Уэльса «Ускорители времени».
Способность предвиденья таит в себе глубочайшие ужасы. Но они кроются не в ином способе воспринимать явления, происходящие во времени.
Несколько лет назад на меня произвела очень глубокое впечатление действительная история одной женщины, которая страдала особого рода ясновидением. Она видела за несколько часов, несколько минут вперед все мелкие, самые обыкновенные и будничные события своей жизни. Все мелочи были ей известны заранее. Она страдала от этого невыносимо и несколько раз покушалась на самоубийство. Ее предвиденья прекращались только во время ее беременности, но с рождением ребенка возобновлялись, усугубляясь еще тем, что она знала за несколько часов вперед не только каждое свое движение, но и каждый момент в жизни своих детей и близких.
Ей удалось умертвить себя. В письме, оставленном на имя своего врача, она писала: «Вы никогда не стали бы удерживать меня от самоубийства, если бы знали всю муку моей жизни. Я живу все время отделенная от мира людей, но в нем. Я знаю и вижу чужие радости и страдания, но сама лишена их. Я давно умерла и только случайно осталась среди живых».
В этом психиатрическом факте я вижу весь тот ужас, который Л. Андреев хотел и не смог передать в своем Елеазаре.
Неизбежное знание всех мелочей и случайностей жизни за несколько часов, за несколько дней до их осуществления может убить жизненную волю человека. Но видеть человека одновременно рождающимся младенцем и умирающим стариком – это не ужас, а мудрость, и в таком созерцании таятся все истинные радости познания.
Л. Андреев построил свой ужас времени на том, что называется «дурной бесконечностью», т. е. на беспрерывном повторении одного и того же. «Дурная бесконечность» была бы невыносима для человеческого познания, если бы в человеке, познавшем ее количественно, этим самым не раскрывался внутренний путь в новую бездну – в новое измерение.
Так пространственная бесконечность была бы для нас невыносима, если бы у нас не было представления о времени, которое позволяет нам двигаться в пространстве.
Точно так же невыносимая для слепого ума бесконечность во времени примиряется в самосознании человека, которое позволяет ему двигаться по всему пространству времени силою своих воспоминаний.
Тот ужас, который лучился из глаз Елеазара, – не ужас, а освященный дар, высшая интеллектуальная радость человека.
Л. Андреев стоял на верной дороге в своем наблюдении над свойствами предвиденья, но со штуковской размашистостью из предвиденья на несколько часов вперед он сделал предвиденье всей вечности, и получилась бутафорская и смешная ложь.
Талант Леонида Андреева представляется мне в виде тысячегранного глаза мухи. В тысяче различных обликов, тысячью граней своего зеркала четко отражает он остроту действительности.
Но это полное тысячегранное восприятие рождает в нем только одну эмоцию ужаса и бессмысленности. Его глаз не соединен с его самосознанием.
Поэтому и «Елеазар», и «Красный смех», и «Жизнь Василия Фивейского» производят впечатление богохульства.
Богохульства, но не богоборства.
Богоборцы – титаны, которые громоздят Оссу на Пелион, чтобы низвергнуть олимпийских богов и самим стать на их место.
Богоборец тот, кто низвергает бога во времени во имя иного бога, носимого им в душе, во имя того бога, про которого сказано:
«Я – твой бог, и да не будет тебе иных богов кроме твоего Я».
«Не сотвори себе кумира ни на небесах, ни на земле».