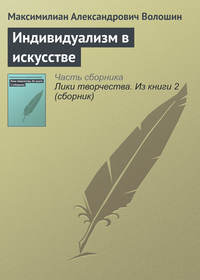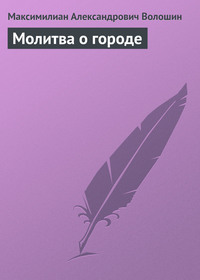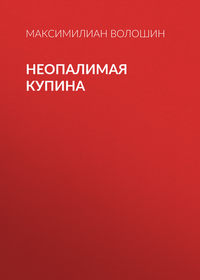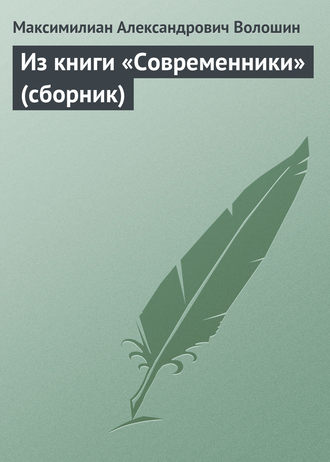
Из книги «Современники» (сборник)
Но ангелы-хранители появляются тотчас же и реют со всех сторон неба, ему невидимые, но стерегущие.
Едва только пронесся слух, что граф Толстой ушел из дому, министр внутренних дел телеграфировал заботливо, чтобы у него не спрашивали паспорта, если такового не окажется. Корреспонденты всех русских и европейских газет и добровольные сыщики тучами поскакали по его следам в Оптину пустынь и в Астапово. Через день в Астапово уже собралась вся семья, от которой он бежал; рязанский губернатор около дома, где он лежал больной, делал смотр стражникам; телеграфная проволока обессилевала, передавая во все концы мира бюллетени о его здоровье, а умирающий Толстой в это время думал, что он наконец скрылся от мира и что никто не знает, где он.
Одна из последних фраз Толстого перед смертью звучит кроткой жалобой: «Зачем вы заботитесь обо мне, когда есть миллионы людей, о которых надо заботиться?»
Но у кого хватит духу упрекнуть окружавших Толстого и его близких за это кощунственное издевательство над умирающим? В совокупности обстоятельств, сопровождавших смерть Толстого, слишком много неизбежного фатума, тяготевшего над ним в течение его жизни, этот эпилог слишком четко освещает лицо его судьбы, чтобы можно было видеть причину этих последних неумолимых штрихов в случайностях и в непонимании людей, а не в нем самом.
Что же в его жизни могло вызвать такие сложные счеты с судьбой? Об этом, конечно, в ближайшие столетия будут написаны многие тома, а единственно авторитетное разрешение этой тайны станет ясно только на Страшном суде.
Но Толстой жил между нами, и мы не имеем права закрывать глаза на заданную нам загадку о его судьбе, не имеем права не определить каждый для себя первоистока этого трагического противоположения воли к жертве и благополучной судьбы.
В обстоятельствах смерти Толстого даны указания, по которым можно найти эти первоистоки: то, что круг безопасности не был разомкнут для Толстого и самою смертью, указывает на то, что причина этого не только была, но и пребывала в нем.
Причина эта лежала в отношении его к тайне Зла на земле. А отношение это выражено в толстовском учении о непротивлении.
Зло Толстой понимал крайне просто и верил в то, что существует какое-то одно средство против всякого зла и что стоит только людям условиться применить его всем вместе, и зла не станет.
Формула всемирного исцеления от зла проста: не противься злу, и зло не коснется тебя.
Толстой провел ее в своей жизни последовательно и до конца. И ужас в том, что все исполнилось буквально. Как только он перестал противиться злому, как тотчас же вокруг него замкнулся круг благополучия и безопасности. Сразу притупились все жала зла, которые могли бы быть направлены против него. Образовалась безопасность, подобная непереносимой безбольности парализованного члена тела, когда больной вскрикивает от радости при первом ощущении боли.
Чем можно объяснить этот не христианский, а чисто магический эффект, столь сходный с третьим искушением Христа, вдруг возникший от буквального применения евангельских слов?
Мне думается, что причина здесь лежит лишь в одностороннем понимании слов: «не противься злому». Если я перестаю противиться злому вне себя, то этим создаю только для себя безопасность от внешнего зла, но вместе с тем и замыкаюсь в эгоистическом самосовершенствовании. Я лишаю себя опыта земной жизни, возможности необходимых слабостей и падений, которые одни учат нас прощению, пониманию и приятию мира. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее». Не противясь злу, я как бы хирургически отделяю зло от себя и этим нарушаю глубочайшую истину, разоблаченную Христом: что мы здесь на земле вовсе не для того, чтобы отвергнуть зло, а для того, чтобы преобразить, просветить, спасти зло. А спасти и освятить зло мы можем, только принявши его в себя и внутри себя, собою его освятив.
Толстой не понял смысла зла на земле и не смог разрешить его тайны.
И потому сбылось с ним по слову Писания: «Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя…»
Памятник Толстому
Какой он должен быть? Я говорю не о способе почтить достойным образом память Толстого, а об чисто скульптурной задаче. Какой должна быть статуя Толстого на одной из площадей Москвы?
В чем смысл памятника? Лицо и фигура человека должны стать собственным его символом, символом его жизни и его исторического значения. Памятник скульптурный должен в конкретных формах земного лика художника или героя найти то, что было в нем вечного и соответствующего его историческому значению.
Так, например, представляя себе памятник Достоевского, я его вижу в арестантском халате, стоящим во весь рост, с кандалами на ногах, с обритой обнаженной головой. Но лицо его поднято к небу, и на нем почти экстатическая радость. Но в этих знаках не следует видеть намека политического. Обстоятельства жизни Достоевского дают только материал для символа всечеловеческого. То, что Достоевский был каторжником в Сибири, служит лишь прообразом того, что он был каторжником земли, что у него на ногах были цепи земных, низких страстей, что голова его была здесь обнажена и обрита, как голова раба, но он и в рабском виде и скованный воскликнул свою «Осанну». Такая символизация делает памятник законченным и общепонятным, т. е. понятным на разных планах: те, кто не смогут возвыситься до понимания мирового смысла судьбы Достоевского, поймут житейский трагизм его земной судьбы.
Памятник Льву Толстому должен быть конным.
Можно ли представить себе конным кого-нибудь из других русских писателей: Достоевского, Гоголя, Пушкина? Нет. Даже Лермонтова нельзя представить себе конным, несмотря на всю его мужественность. А Льва Толстого можно.
Почему?
Припомните все знаменитые конные памятники: верокиевского Коллеоне в Венеции, Марка Аврелия на Капитолии, фальконетовского Петра и, наконец, Александра III – Трубецкого. Они все конные, потому что изображают героев воли. Какая тяжелая, принижающая, все топчущая (копытом Аттилы!) воля выражена в коне Коллеоне! Воля мягкая и мудрая, воля умиротворяющая и уравновешенная в статуе Марка Аврелия, про которую прекрасно сказал Мицкевич, что он едет среди благословляющих его народов. И рядом в той же поэме Мицкевич ставит Петра, вздыбившего своего коня на краю бездны. Конь Александра III – это воля упорная, тяжелая, сдерживающая.
Лев Толстой никогда не стал бы писателем мировым, если бы он был только художником; он захватил внимание земли напряженной борьбою своей воли, ушедшей в глубь самое себя. Есть рассказ про одного русского святого, что в то время как он сосредоточенно и тихо молился у себя в келье, то вся изба кругом сотрясалась и ходила ходуном. Не то же ли самое в судьбе Толстого? Он тихо молится в Ясной Поляне, а Америка сотрясается!
Я вижу Толстого на крестьянской крепкой, грубоватой, но облагороженной ездоком лошади, без седла, в русской рубахе и мужицких портах с босыми ногами (вспомните ноги Марка Аврелия). Он должен быть стариком, но не дряхлым, как в последние годы, а таким, каким он был в 90-х годах. Голый череп, большая, может быть, даже преувеличенная борода. Лицо немного склоненное книзу: памятник должен быть очень велик и высок (но в такой пропорции, чтобы и конь и всадник подавляли свой пьедестал), и лицо Толстого должно смотреть на площадь сверху вниз. При взгляде на него невольно должен вспоминаться былинный богатырь, Илья Муромец в старости, но отнюдь это не должно напоминать лжебылинных богатырей Васнецова. На всем должна лежать глубокая толстовская простота, толстовский реализм. И в то же время всадник, которого я вижу, не напоминает и слишком изящной конной статуэтки Трубецкого «Гр. Толстой верхом».
Я сейчас не могу припомнить ни одного конного памятника в честь писателя или художника, кроме конной статуи Веласкеза в Париже. И это понятно, потому что Веласкез – это живописец чистой воли.
Таким образом, конный памятник Толстого поставил бы его на совершенно отдельное место, ему одному подобающее в истории современного искусства.
Поэты русского склада
«Любите ли вы читать словари?» – был первый вопрос Теофиля Готье, когда к нему пришел познакомиться молодой Бодлэр. О той же самой необходимости для поэтов собирать и любить словесные сокровища родного языка говорил Пушкин, когда советовал учиться русскому языку у московских просвирен.
Но между методом Пушкина, прислушивавшегося к живому московскому говору, и методом Теофиля Готье, перебиравшего старые ларцы с драгоценностями, – большая разница. Метод Пушкина – естественный и вечный, метод Готье – культурный и утонченный: живые ключи речи и драгоценные кристаллы умерших слов, текучее зеркало реки и венецианское зеркало в пыльной стеклянной оправе.
Русские поэты послепушкинской эпохи инстинктивно, но без внимания прислушивались к живой речи, никогда не читали словарей, но иногда летописи и древние памятники.
Едва ли не первый из современных поэтов, начавший читать Даля, был Вячеслав Иванов. Во всяком случае современные поэты младшего поколения под его влиянием подписались на новое издание Даля.
Открытие словесных богатств русского языка было для читающей публики похоже на изучение совершенно нового иностранного языка. И старые и народные русские слова казались драгоценностями, которым совершенно нет места в обычном интеллигентском идейном обиходе, в том привычном словесном комфорте в упрощенной речи, составленной из интернациональных элементов. Никакое чутье русского языка не подсказывало читателю, что «щегла» – это верхушка мачт, а «выгорожка» – страсть любовная.
А с другой стороны – для поэта было заманчиво вместо привычного и утомленного иностранного слова «горизонт» сказать «овидь» или «озор», вместо «футляр» написать «льяло», вместо «спирали» – «увой», вместо «зенита» – «притин». Русский язык самый богатый (словесными богатствами) из европейских языков. Но тот разговорный и журнальный язык, которым мы пользуемся ежедневно, без сомнения, самый бедный из всех. То, что начали делать русские поэты девятисотых годов, это было вовсе не то эмалирование языка техническими и живописующими терминами, как это делал Теофиль Готье. Эредиа собирал слова в старых каталогах оружия и учебниках ремесел и инкрустировал их в свои сонеты. Гюисманс иллюминировал свой стиль старинными словами. Нам еще далеко до этих возможностей. (У одного только Вячеслава Иванова, быть может, есть нечто подобное этому методу, так как стиль вообще усложнен именами самых различных происхождений.) Перед современными поэтами встала задача не только очищения русского языка от слов иностранных и истертых, но и воссоздание того синтаксиса, того склада и ритма, к которому обязывало введение новых (т. е. старых) слов. Одной из ошибок бальмонтовской «Жар-птицы» было то, что синтаксис речи оставался бальмонтовский и обличал подделку.
В прозаической речи работа над синтаксисом велась строже и последовательнее, чем в поэзии. С одной стороны, Ф. Сологуб осторожно и со вкусом вводил в склад обычной прозы размеренность и разымчивость русского склада исключительно одной искусной расстановкой слов. С другой стороны, А. М. Ремизов, исходя целиком из склада народного, его сжимал, ускорял, усиливал и тесно, как мелким бисером, вышивал страницы своего «Лимонаря» и «Посолони». Между тем и в поэзии появились попытки говорить народным складом и русскими словами, не отходя при этом ни от современного стихосложения, ни от современного стиля.
Первой попыткой такого рода, сразу победившей и очаровавшей, была «Ярь» С. Городецкого. Но Городецкий не оправдал всех надежд, на него возлагающихся. Ему не хватало ни выдержки, ни метода. Он соблазнился легкостью творчества и скомпрометировал себя поэтическим многословием. Книга Любови Столицы «Раиня» несла в себе очень серьезные обещания. Многое в ней очаровывало своей свежестью и подлинностью. Ее новая обещанная книга «Лада» покажет, справедливы ли были эти надежды. Очень личную и не похожую ни на кого ноту внесла Аделаида Герцык; ее старорусские слова и ритмы, то с перерывами, то с придыханиями, отметили возможность очень субъективного лирического подхода к русскому складу.
Этой зимой вышли две книги стихов, отмеченных русским складом: «За синими реками» гр. Алексея Николаевича Толстого и «Песни» Сергея Клычкова. Гр. Алексей Толстой очень самостоятельно и сразу вошел в русскую литературу. Его литературному выступлению едва минуло два года, а он уже имеет имя и видное положение среди современной беллетристики. В нем есть несомненная предназначенность к определенной литературной роли.
Судьбе было угодно соединить в нем имена целого ряда писателей сороковых годов: по отцу – он Толстой, по матери – Тургенев, с какой-то стороны близок не то с Аксаковым, не то с Хомяковым… Одним словом, в нем течет кровь классиков русской прозы, черноземная, щедрая помещичья кровь; причем он является побегом тех линий этих семейств, которые не были еще истощены литературными выявлениями: ни Лев Николаевич, ни Алексей Константинович, ни Иван Сергеевич, ни Сергей Тимофеевич не были его предками.
Немудрено при таких обстоятельствах, что народный склад речи является естественным ритмом его души и что этот склад получает силу и сжатость, стесненный строгим чувством литературного стиля.
Иногда бросается в глаза на страницах этой книги ее родовое сходство с его тезкой – гр. Алексеем Константиновичем Толстым, но сходство это внешне. Оно больше бросается в глаза в стихотворениях исторических («Ведьма-Птица», «Суд», «Беда», «Скоморохи»). В тех же, что основаны на славянской мифологии, молодой Алексей Толстой подлиннее и тоньше старого Алексея Толстого. Стоит только прочесть стихотворения «Заклятие смерти», «Додола», «Трава», «Земля», «Полдень», «Пастух», чтобы увидать, что это именно то гармоническое соединение стиля литературного с народным складом, которое мы вправе назвать классическим. «Солнечные песни» («Весенний дождь», «Купальские игрища», «Осеннее золото», «Заморозки»), несмотря на богатство образов и остроумные комбинации мифологических данных, не являют еще той художественной законченности, как стихотворения вышеупомянутые. Это как бы подготовительные работы к стихам позднейшего типа. Лирические циклы стихов, заключающие книгу: «Хлоя», «Фавн» и «Обитель», обнаруживают в Толстом возможности хорошего лирика-пейзажиста ясного пушкинского стиля. «За синими реками» – хорошая и свежая книга, в которой почти каждое стихотворение ценно. Жаль будет, если Алексей Толстой окажется лишь временным гостем в поэзии, если романист и рассказчик похоронит в себе рано умершего поэта, как это часто случается с беллетристами.
Рядом с раннею зрелостью Толстого Сергей Клычков кажется очень юным дебютантом, но дебютантом, от которого можно ожидать многого. Его «Песни» – не песни, а скорее скороговорки, удачно подобранные, часто красивые, но всегда оборванные на первом слове. Не хватает складной речи. Хочется послушать, как С. Клычков будет рассказывать о себе. Пока же это лишь звучный перебор колоколов:
Дили-бом! Дили-бом!Ддага-бам! Дилн-бам!Все чугунным языкомПо серебряным губам!Итоги П. Д. Боборыкина
У многих русских читателей существует иллюзия, что русская литература очень внимательно следит за жизнью Запада, что все более или менее выдающееся там тотчас же бывает отмечено, переведено и издано у нас.
Эта иллюзия мне знакома. Я разделял ее, пока, прожив много лет во Франции, не убедился в том, что необходимо по крайней мере пятнадцать, двадцать лет для того, чтобы все действительно значительное достигло страниц русских газет и журналов. Я говорю только о настоящем искусстве, потому что произведения второсортные переводятся тотчас же, – разные Генрихи Манны, Бласко Ибаньесы, Марсели Прево и др. – сразу выходят в полных собраниях сочинений. И это – вина не только издателей, подделывающихся под дурные вкусы публики, но и вина осведомителей, т. е. тех русских писателей, которые, живя на Западе, следят за движениями мысли и сообщают о них в русских журналах.
Образец – книга П. Д. Боборыкина «Столицы мира» (Тридцать лет воспоминаний о Париже и Лондоне).
«Автор этой книги – русский человек второй половины XIX века, который был поставлен в особо благоприятные условия для продолжительных наблюдений и жизненных испытаний на Западе», – говорит он сам в предисловии и выражает надежду, что эта книга «Итогов» вызовет в людях «более молодых генераций» «более широкое и беспристрастное отношение ко всему тому, что великие лаборатории европейской культуры – Париж и Лондон – давали всем нам в прошлом веке, дают и теперь». Действительно, по своей репутации человека разносторонне образованного, ко всему любопытного, романиста, схватывающего последний крик современности, убежденного западника, неутомимого путешественника П. Д. Боборыкин кажется предназначенным для роли осведомителя о последних течениях духовной жизни Запада.
Боборыкин жил в Париже годами, всегда интересовался вопросами мысли и искусства и некоторые области, как театр и роман, изучил систематически. Мы вправе ожидать от него действительного знания европейской культуры за последние полвека.
Но если отрешиться от всего литературного облика Боборыкина, забыть все случайно о нем известное и только внимательно вслушаться в тембр голоса и в интонации стиля автора этих «Итогов», кого мы увидим?
Это говорит человек пожилой, со средствами, путешествовавший по Европе всю жизнь, обладающий самоуверенностью и самомнением, любящий комфорт отелей, обладающий положительной эрудицией по части ресторанов, человек с твердыми и постоянными убеждениями в том смысле, что раз усвоенная им чужая теория навсегда засаривает его мозг и не допускает туда проникновения каких бы то ни было новых идей, – словом, один из тех умов, для которых воспринятая в молодости истина становится болезнью, вроде идейного запора; разумеется, это «эгоист вполне», глубоко равнодушный ко всем людям, но любопытный до житейских обстоятельств: кто на ком женат, кто с кем живет, кто сделал какую гадость, и любящий, когда зайдет разговор о деятельности или творчестве известного человека, сейчас же припомнить несколько ходовых сплетен и инсинуаций; дальше этой осведомленности да неблагожелательной заметливости относительно некоторых черточек поведения – его знание человека не идет. Доминирующее чувство в его отношении к людям, это – пренебрежение. Из воспоминаний его явствует, что он презирает прежде всего всех тех, кто обращался с ним любезно, всех, кто младше его возрастом, всех, кто придерживается иных убеждений, чем он, и, кроме того, всех знаменитостей, которые имели несчастье с ним познакомиться до начала их славы. С уважением относится он только к тем, кого знал в годы своего учения, до тридцати лет, т. е. Литтре, Ренану, Тэну, Клоду Бернару; уважает и англичан вообще, особенно Спенсера и Стюарта Милля. Но уважает уже настолько, что отмечает, например, как событие, что в 1868 г., он сидел в расстоянии двух сажен от д'Израэли, по другую сторону в таком же расстоянии сидел Гладстон (стр. 158). И больше ничего не было: только сидели, ничего не говорили и, по-видимому, даже с Боборыкиным не были знакомы. Но потом он расспросил депутатов и узнал, что д'Израэли красит волосы и часто ходит в буфет подкреплять себя рюмками хереса, «будто бы даже с прибавкой капель опиума».
Что же касается французов, которые, как он сам не раз повторяет, принимали его гораздо любезнее, чем англичане, то он каждого из своих добрых приятелей старается чем-нибудь запачкать и скомпрометировать. О Гонкурах он спешит сообщить, что их пьесу освистали, потому что считали их «прихвостнями принцессы Матильды»; Гамбетте не может забыть, что знал его безвестным адвокатом, когда тот жил еще на шестом этаже, где Боборыкин был и видел его тетку, которую принял за бонну… «Так она была одета и таким тоном говорила» (стр. 124). В Жюле Валлэсе он нашел «якие и малосимпатичные черты парижской литературной богемы, с раздутым сознанием своих авторских дарований». Видит ли он славного и несчастного Курье как подсудимого, во время трагического суда над коммунарами в Версале, – для него он «прославил себя тем, что руководил работами при низвержении Вандомской колонны. Жирная фигура с сонным добродушным лицом» (стр. 148). Вот отзыв про Клемансо: «Хорошо, что Гамбетта умер не своевременною смертью. Может быть, и он кончил бы так же, как кончали на наших глазах вожаки радикального большинства палаты, например Клемансо… Ведь он одно время считался чуть ли не тайным диктатором… А каким я его нашел после того, как он провалился на выборах, в тесном, невзрачном помещении газеты „Justice“» (стр. 152). У Бобрыкина есть наивная убежденность в том, что из всех тех, кто были с ним знакомы, ничего порядочного выйти не может. Ив Гюйо – министр публичных работ. «Да, этого Гюйо я знаю уже сорок лет… Бесшабашный газетный строчила. Мы с ним вместе были в одном литературном обществе!» (стр. 155). Локруа – морской министр? Да, ведь его первоначальной карьерой было сочинение водевилей, и женился он на вдове одного из сыновей Гюго… (стр. 156). Дюма-сын? – Он же был женат на русской даме, которую московские старички еще и до сих пор помнят, и весь дом его, и дочерью хозяйки от первого брака и с теми, что родились от Дюма, производил впечатление чего-то разношерстного, и обвенчался-то он с ней чуть ли не «in extremis»[15], (стр. 169), Поэтесса madame Аккерман – «производила впечатление разносторонне развитой кумушки со своим ридикюлем» (стр. 179). Золя из первого гонорара купил перстень в 500 франков. Альфонс Доде? Как же! – Я к нему пришел как раз в тот момент, когда его жена собиралась родить. Ее хорошенькое личико смотрело уже изнуренным; он показался мне истым чадом литературной богемы (стр. 188). А Мопассан все хвастался необычайным эротизмом и умер совершенным буржуа-сексуалистом, далеким от каких бы то ни было возвышенных порывов и чувств (стр. 190). Верлэн? – В бульварной прессе его скандальные нравы уже не отвлекали, а возбуждали нездоровое и все возраставшее любопытство (стр. 193). Анатоль Франс? – Многие молодые люди высоко ценят талант, манеру и замыслы его беллетристических вещей. Он успел себе завоевать имя и как литературный критик. Некоторые из моих парижских приятелей не раз предлагали мне познакомиться с ним; но как критика я не считал и до сих пор не считаю его носителем каких-нибудь новых идей и приемов, а в беллетристике его вижу талантливую игру в какой-то двойственный, полумистический, полупорнографический сексуализм (стр. 200). Жюль Леметр? Он ведь еще не так давно был безвестным учителем лицея в провинции. Успел уже очутиться в академиках и разменялся на медные деньги дилетантства. Поль Адам? Да вы знаете, что дело дошло до того, что этот самый Поль Адам весною 1895 г., в литературном журнале «Revue blanche» цинично напечатал формальную защиту нравов английского писателя Оскара Уайльда по поводу его приговора к двухлетнему тюремному заключению. «Это извращение нравственных устоев доходит прямо до садизма…» (стр. 201). В кабарэ «Chat noire», бывшем школой целого поколения поэтов и художников, Боборыкин видит «дорогой кафешантан, выработавший особый вид зубоскальства и претенциозной эксцентричности на самые скабрезные темы; там часто дебютировали сами сочинители слов и музыки перед избранной публикой виверов обоего пола, писателей, туристов и кокоток высшего и среднего полета (стр. 277). Путешественник Станлей? Ведь это же мой товарищ по газетной кампании 1869 г. в Испании! Богатый человек, живет открыто, делает приемы… Вот чего может достичь простой газетный корреспондент, вдобавок с очень малым образованием и с обыкновенным умением владеть пером» (стр. 309).
И на какой бы странице мы ни раскрыли этот толстый убористый том «итогов», везде и всюду мы найдем такие же словечки и замечания. Он знал всех выдающихся мыслителей, литераторов и художников Европы за полвека и не научился говорить о них тоном иным, чем тот, которым петербургские чиновники говорят о служебных карьерах своих сослуживцев.
Итоги П. Д. Боборыкина о тех людях, с которыми он встречался, – убийственны для него.
«Столицы мира» помечены 1912 годом. Фактически они обнимают время с 1865 по 1895 г. «То, что дали самые последние годы прошлого столетия и самые первые XX, – предупреждает он, – прибавило бы мало существенного к этим тридцатилетним итогам. Я мог бы их дополнить до настоящей минуты. Но я этого не сделаю потому, что моя книга представляет уже нечто вроде исторического документа. Поэтому я только изредка ставлю поправки о некоторых деталях, изменившихся за последние десять лет».
Если же, прочтя эти строки, принять в соображение, что именно за эти 17 лет (с 1895 по 1912 г.) Франция пережила полную революцию в области литературы и живописи, а в области научной мысли вступила под новый знак, то мы ясно поймем, почему надо по крайней мере 15–20 лет, чтобы наши знатоки западной культуры успели нас известить о последних новостях идейных течений.