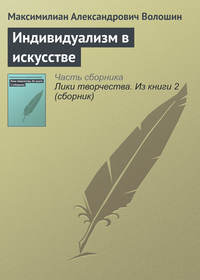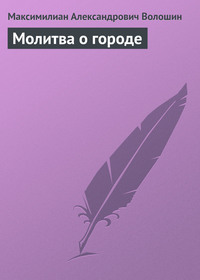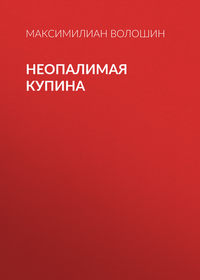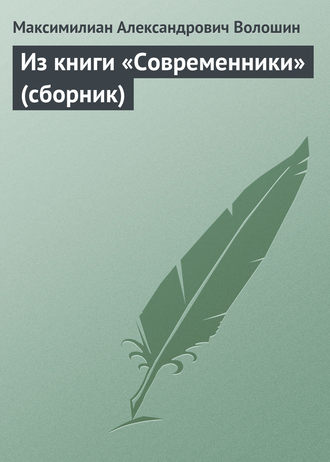
Из книги «Современники» (сборник)
«Разгоряченные с болезненным возбуждением приходили мы к обеду, где все было так буднично и безопасно, где всегда одинаково скучно разговаривали взрослые, – и такая бездна лежала между тем, что мы только что пережили, и мирной действительностью, что нельзя было их примирить. И мы стали видеть врага в жизни. После обеда нас тянуло опять к замученным неграм»…
Здесь в игре, лишенной меча Судии и принимающей явление во всей его цельности, таится высшая мудрость и разрешение антиномии жалости и злорадства в одном волнующем синтезе палача и жертвы.
Наслаждение этой игры основано на мучительстве, но мучительство рождается из нестерпимой жалости, заставляющей слить свое я с душой мучимого.
У Шопенгауэра из зрелища жестокости рождается сострадание, а из сострадания естественно возникает жажда мести, желание отплатить палачам горшею жестокостью – безвыходный круг, в который замыкает человека идея земной справедливости.
«Когда хотят сделать людей добрыми и мудрыми, терпимыми и благородными, то неизбежно приходят к желанию убить их всех». Так формулирует Анатоль Франс этот замкнутый круг справедливости.
Но игра двух маленьких девочек в «пытки» дает указание на то, что жестокость рождается не от «дьявольского» характера человека, а из его жалости; и больше того, что существует некое единое чувство к жизни, причем жалость и жестокость являются только внешними волевыми и неразделимыми выявлениями его.
Не осознанное еще разумом человека, это чувство не имеет имени в человеческом языке. Но в сонном творчестве детской игры оно является в своем сверхчувственном единстве, отливая радугами обеих полярностей.
И так в откровениях детских игр становится нам понятной тайна того, как самым чувствительным и сантиментальным из поколений Франции был создан Террор и как нестерпимая жалость к еретикам и отступникам христианства рождала застенки Инквизиции.
Истинно жестоким может быть только тот, для кого невыносимо зрелище человеческих страданий. Нет ничего страшнее власти над жизнью и смертью, попавшей в руки людей чувствительных.
Так в сонном сознании игры можем мы найти разрешение всех нравственных антиномий, непримиримых в нашем дневном сознании.
Так из чувства стыда в ребенке пробуждается впервые чувственность…
Но этот вопрос настолько сложен, что требует отдельного исследования, тем более что этой стороны Ад. Герцык совершенно не касается в своих воспоминаниях.
* * *«Так я жила среди людей, – говорит Ад. Герцык. – Все время видя за ними создание своей фантазии, слыша за их словами речи тех – других, и это слепое лунатическое состояние заслоняло все события жизни…
Быть может, если бы я иначе играла в детстве, жизнь моя была бы иной? И как нужно играть, чтобы из игры незаметно развернулась жизнь?..
Затаенная работа воображения все более развивала пассивную созерцательность, угрюмую жажду одиночества, потребность жить про себя, не нарушая своих дум столкновением с жизнью. Было бы длинно рассказывать, как потом жизнь постепенно, жестоко и мучительно отвоевывала меня назад, с какой болью совершался этот переход и как навсегда осталась я сторонней зрительницей жизни, и каждый призыв ее вызывает боль и протест в моей душе».
Повесть об этом я прочел в «Цветнике Ор» в цикле стихотворений Аделаиды Герцык «Золот ключ». Но едва ли эта уединенная и строгая поэзия будет понятна тому, кто не прочел ее детских воспоминаний.
«В детских играх подобает искать вдохновения и задач всей нашей жизни», гласит эпиграф из Гюйо, служащий фронтисписом к ее воспоминаниям.
Князь А. И. Урусов
«Есть люди, истинное призвание которых – мыслить, выдумывать, болтать, развевая эти мысли на воздух, служа миссионерами художественных и других идей. Невидимое сотрудничество таких людей не проходит бесследно. Они являются неведомыми инициаторами многих идей, которыми живут эпохи.
Когда они начинают писать, они берут назад свое дело, нарушают принцип разделения труда. Я, быть может, принадлежу к числу этих бесполезных, но необходимых болтунов и книгонош. Сколько я распространил флоберовских и бодлеровских томов! Ведь это мне зачтется в стране, где зачитываются Сенкевичем и Надсоном».
Эти слова, написанные кн. А. И. Урусовым в одном из писем, – его скромное «Exegi monumentum»…
Имя знаменитое в анналах русской адвокатуры, а изданием этих двух толстых томов, посвященных его статьям, письмам и воспоминаниям о нем, приобретает еще более культурное и общественное значение для умственной истории России в конце XIX века.
Дополняя то, что недосказано им в этих словах, можно сказать: есть люди, историческая роль которых быть нервными центрами общественного организма. Эта роль громадна по своему значению, потому что не может возникнуть общественности в том народе, у которого нет этих развитых нервных центров. Такие люди воплощают в себе тонкое ухо, острую приметливость, вещую чуткость общества. На них зиждется терпимость и нервность народа, связь старого с новым, одного поколения с другим.
Историческая роль кн. А. И. Урусова в том, что он действительно был нервным центром современного ему общества. Концентрическими кругами расходился от него трепет его личности, его интересов, его художественных вкусов, его литературных увлечений.
Подобных людей было много в известные эпохи развития западноевропейского и античного общества, но у нас их почти совсем нет. Идеальный тип такого общественного деятеля, быть может, с наибольшей полнотой создан Пушкиным в «Послании к вельможе». При чтении писем Урусова невольно приходят на память стихи:
…Ступив за твой порог,Я вдруг переношусь во дни Екатерины.Книгохранилище, кумиры и картины,И стройные сады свидетельствуют мне,Что благосклонствуешь ты музам в тишине,Что ими в праздности ты дышишь благородной.Я слушаю тебя. Твой разговор свободныйИсполнен юности. Влиянье красотыТы живо чувствуешь. С восторгом ценишь тыИ блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой.Здесь невольно хочется заменить имена Екатерины, Вольтера, Бомарше – именами Бодлэра, Флобера, Гонкуров, а имена Алябьевой и Гончаровой именем Элеоноры Дузе.
В Урусове ярко и законченно сказался прекрасный в своих высших проявлениях тип русской дворянской культуры, тот тип русского барина, о котором говорит Достоевский в «Подростке» устами Версилова:
«Русскому Европа так же драгоценна, как и Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как Россия. О, более! Русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти обломки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим! У них там теперь другие чувства и другие мысли, и они перестали дорожить старыми камнями».
Эта творческая любовь к «старым камням» в высшей степени развита у Урусова. Она деятельно и творчески проникает всю его жизнь, каждое слово, им написанное.
Он по природе своей консерватор – не в политическом смысле, конечно, а в настоящем и глубоком значении этого слова, – хранитель, ценитель, собиратель жизни. Эта жажда сохранить все, что можно, от текущего момента, оставить как можно больше подлинных исторических документов делала его ярым коллекционером.
В одной статье («Интересны ли мы?») он делает такой призыв к русскому обществу:
«Не успеет пройти ста лет, как мы с вами, господа, и все, что нас окружает, – все это сделается интересным, все это будет достоянием музеев и коллекций. Еще сто лет, и наши кухонные книжки попадут в библиотеки в отдел рукописей. Весь вздор, какой мы пишем, будет иметь историческое значение. Каждая строчка пустого письма – через несколько веков приобретет значение свидетельства, чуть не памятника. И не воображайте, что такая честь подобает только гениям. Я говорю не о гениях, а о толпе. История пишется умами высшими, а делается всеми. Моя история – биография ничтожного и неинтересного человека – интересна и значительна как часть целого. А мою историю я пишу каждый день в моих письмах и читаю в письмах, которые мне пишут… Все, господа, все нужно коллекционировать. И поверьте, охраняя от разрушения и истребления смиренные памятники жизни, вы потрудитесь для культуры».
Сам он строго следовал этим правилам и хранил каждый материальный знак жизни. С неослабным вниманием и постоянством он в течение 40 лет вел свои записные книжки (на что необходима немалая сила воли), чтобы «спасти эфемерное мгновение жизни от тления, чтобы фиксировать мираж жизни».
«Боже мой, чего только нет в этих записных книжечках, – пишет он в одном письме, – и романы, и идиллии, и эклоги, и дела, и расходы, и адреса, и рецепты, перлы и стихотворения (чужие, конечно), и автографы. Посоветуйте, что мне делать с ними? Я хочу их в железную шкатулку и на 100 лет в Румянцевский музей, запереть, запечатать, и ключ забросить. Через сто лет это будет интересно, теперь было бы скандалезно. Я старался записывать все то, что вообще не пишется».
По тем отрывкам писем, дневников и статей, которые собраны теперь, можно только с завистью сказать: «Как будут счастливы те исследователи истории русского общества, в руках которых окажутся эти документы!» – потому, что заранее можно предвидеть, каким свидетелем об истории своего времени явится Урусов.
«Есть люди, истинное призвание которых служить миссионерами идей, развеивая эти мысли на воздух. Когда они начинают писать, то они берутся не за свое дело».
Быть может, требовательность к форме, основанная на глубоком понимании ее у других, парализует их перо.
Не был ли таким человеком Стефан Маллармэ, который своими беседами воспитал целое поколение французских поэтов, и Оскар Уайльд, который «свой гений вложил в жизнь и разговоры, а талант оставил для художественных произведений»? Литературный багаж такого рода людей всегда кажется непропорциональным их значению, их влиянию. Даже у Маллармэ, даже у Оскара Уайльда. У них должны быть свои Ксенофонты, свои Эккерманы, свои Турнброши («Les opinions de М. Jerome Coignard» Анатоля Франса), которые записывали бы их слова и беседы.
Но летучий и мгновенный талант слова, протекающий вместе с тем мгновением, что заставило его трепетать в воздухе, разве может быть зафиксирован и сохранен?
Андре Жид сохранил нам несколько драгоценных отрывков бесед Оскара Уайльда, но разве они дают всю полноту его гениальных разговоров, разве передают обаяние Маллармэ те диалоги, что сохранены в «Солнце мертвых» Камилла Моклера?
Так и лучшая часть таланта Урусова, главное и неотразимое обаяние его ускользнуло из-под рук издателей сборника его памяти. Все, что здесь собрано, дразнит, обещает, но не дает ни живого трепета речи, ни острых игл ума.
«И давая этот материал, издатели вынуждены исключить из него самую ценную, существенную часть – те судебные речи, которые составляли главную славу Уру сова… Он никогда не писал своих речей… Вдовой и сыном покойного в наше распоряжение предоставлен обширный рукописный материал… Ничто из них не оказалось удобным для печати»…
Горько положение тех издателей, которым приходится выбирать и считаться с тем, что можно теперь напечатать об интимной жизни и что нельзя. Из писем Урусова, которые он так любил писать и писал много, помещено очень незначительное количество, и притом писем безразличных, любезных…
Когда есть выбор того, что можно печатать, и того, что печатать нельзя, то обыкновенно все наиболее интересное и исторически важное оказывается непригодным для печати.
В этом сказывается глубокая трусливость нашего общества. Если печатаются письма, дневники, документы, то они должны печататься целиком, должен существовать «суд мертвых» над живыми.
Если опубликовываются материалы, то они должны опубликовываться целиком, без пропусков, все, что есть. Только это может дать ценный исторический документ, только это будет согласно с теми требованиями документальности, которые с таким глубоким убеждением проповедовал сам Урусов. Иначе они дают иконописный «лик», а не живое лицо человека.
Эти два тома, в которых собраны статьи Урусова о театре (блестящие, глубокие и ценные), воспоминания друзей об Урусове, несколько статей его последнего периода и незначительные отрывки его писем, – нельзя рассматривать иначе, как первые выпуски многотомного издания материалов о кн. Урусове и обществе его времени, в которое войдут и все его письма и письма к нему, которые он так берег и собирал, и его французские статьи из «La plume», из «Cosmopolis», его материалы о Флобере и Бодлэре, статья о Бодлэре из «Les tombeau de Baudelaire» и со временем вся серия его дневников и записных книжек и черновых набросков. Если издатели, издавшие эти два тома, не исполнят этого, то они не исполнят той заповеди сохранения убегающего мгновения жизни, которая сквозит в каждой строке, написанной Урусовым.
Но тем не менее и в том виде, как они сейчас, эти два тома, посвященные кн. А. И. Урусову, глубоко интересны, увлекательны и поучительны потому, что они наставляют именно тем добродетелям, в которых русское общество нуждается в эти годы больше всего: ценить каждую мысль и каждое произведение искусства, уважать каждое явление жизни, каждое явление настоящего связывать с прошлым. С терпимостью и беспристрастием производить отбор культурных ценностей, относиться с почтением к прошлому и хранить знаки и памятники уходящей жизни.
Алексей Ремизов. «Посолонь»
«Посолонь» – книга народных мифов и детских сказок. Главная драгоценность ее – это ее язык. Старинный ларец из резной кости, наполненный драгоценными камнями. Сокровища слов, собранных с глубокой любовью поэтом-коллекционером.
«Вы любите читать словари?» – спросил Теофиль Готье молодого Бодлэра, когда тот пришел к нему в первый раз.
Бодлэр любил словари, и отсюда возникла их дружба.
Надо любить словари, потому что это сокровищницы языка.
Слова от употребления устают, теряют свою заклинательную силу. Тогда необходимо обновить язык, взять часть от древних сокровищ, скрытых в тайниках языка, и бросить их в литературу.
Надо идти учиться у «московских просвирен», учиться писать у «яснополянских деревенских мальчишек» или в те времена, когда сами московские просвирни забыли свой яркий говор, а деревенские мальчишки стали грамотными, идти к словарям, летописям, областным наречиям, всюду, где можно найти живой и мертвой воды, которую можно брызнуть на литературную речь.
В «Посолонь» целыми пригоршнями кинуты эти животворящие семена слова, и они встают буйными степными травами и цветами, пряными, терпкими, смолистыми…
Язык этой книги как весенняя степь, когда благоухаете, птичий гомон и пение ручейков сливаются в одна многочисленный оркестр.
Как степь, тянется «Посолонь» без конца и без начала, меняя свой лик только по временам года, чередующимся по солнцу и от «Весны красны» переходя к «Лету красному», сменяясь «Осенью темной», замирая «Зимой лютой».
И когда приникнешь всем лицом в эту благоухающую чашу диких трав, то стоишь завороженный цветами, как «Chevalier des Fleures»[8], зачарованным ухом вникая в шелесты таинственных голосов земли.
Ремизов ничего не придумывает. Его сказочный талант в том, что он подслушивает молчаливую жизнь вещей и явлений и разоблачает внутреннюю сущность, древний сон каждой вещи.
Искусство его – игра. В детских играх раскрываются самые тайные, самые смутные воспоминания души, встают лики древнейших стихийных духов.
Сам Ремизов напоминает своей наружностью какого-то стихийного духа, сказочное существо, выползшее на свет из темной щели. Наружностью он похож на тех чертей, которые неожиданно выскакивают из игрушечных коробочек, приводя в ужас маленьких детей.
Нос, брови, волосы – все одним взмахом поднялось вверх и стало дыбом.
Он по самые уши закутан в дырявом вязаном платке.
Маленькая сутуловатая фигура, бледное лицо, выставленное из старого коричневого платка, круглые близорукие глаза, темные, точно дырки, брови вразлет и маленькая складка, мучительно дрожащая над левою бровью, острая бородка по-мефистофельски, заканчивающая это круглое грустное лицо, огромный трагический лоб и волосы, подымающиеся дыбом с затылка, – все это парадоксальное сочетание линий придает его лицу нечто мучительное и притягательное, от чего нельзя избавиться, как от загадки, которую необходимо разрешить.
Когда он сидит задумавшись, то лицо его становится величественно, строго и прекрасно. Такое лицо бывало, вероятно, у «Человека, который смеется», в те мгновения, когда он нечеловеческим усилием заставлял сократиться и застыть искалеченные мускулы своего лица.
Ремизов сам надел на свое лицо маску смеха, которую он не снимает, не желая испугать окружающих тем ужасом, который постоянно против воли прорывается в его произведениях.
Особенно в старых его вещах – в романе «Пруд», который был напечатан в «Вопросах жизни», и в рассказе «Серебряные ложки» в «Факелах».
Он строго блюдет моральную заповедь Востока, которая требует улыбаться в моменты горя и не утруждать сострадание окружающих зрелищем своих страданий.
Голос его обладает теми тайнами изгибов, которые делают чтение его нераздельным с сущностью его произведений. Только те могут вполне оценить их, кому приходилось их слышать в его собственном чтении. В печати это только мертвые знаки нот. О таких цветах, распускающихся в столетие раз, память хранит воспоминания более священные, чем о книгах, которые всегда можно перечесть снова.
Когда поэту приходится в жизни заниматься делом, ничего общего не имеющим с внутренней сущностью его души, когда обстоятельства жизни заставляют Спинозу шлифовать стекла, утонченнейшего поэта А. Самэна, чья душа была «Инфантой в пышном платье», служить приказчиком в одном из больших парижских магазинов, Маллармэ быть учителем английского языка, а Ламартина – президентом французской республики, это производит на меня такое впечатление неизъяснимого оскорбления, как тогда, когда Ремизов, блестящий ювелир русской речи, занимается статистикой грудных детей заполняя кусочки разграфленного картона своим изысканным почерком XVII века. Как Лев Николаевич Мышкин, Ремизов любит почерк. Он ценит, собирает и копирует старые манускрипты и пишет рукописи свои полууставом, иллюминируя заглавные буквы, что придает внешности их не меньшую художественную ценность, чем их стилю.
Но то, что он занимается статистикой грудных младенцев, это даже гармонирует со всей его сказочной фигурой. Кажется, что он, как его «Кострома» – «знает, что в колыбельках деется, и кто грудь сосет, и кто молочко хлебает, зовет каждое дитё по имени и всех отличить может».
Его письменный стол и полки с книгами уставлены детскими игрушками. Белая мышка-хвостатка стережет шкатулку. А в шкатулке хранится колдовской платок. «Махнешь им, а за спиной озеро встанет». Платок шелковый, полуистлевший от времени, точно из паутины сотканный. Вылинявший пурпур с черным.
На желтых кожаных переплетах старопечатных книг сидят две белки-мохнатки «и орешки щелкают».
Около чернильницы стоит глиняная курица с глупым и растерянным лицом: «Не простая курица – троецыпленница – трижды сидела на яйцах, три семьи вывела: пятьдесят пар кур, шестьдесят петухов».
На картонке сидит Зайчик Иваныч: одно ухо опущено и одним глазом глядит, «все о каких-то лисятах вспоминает… Он ли их съел, они ли его детей слопали – понять мудрено».
«А вот этот Наташин медведь – Наташа-то уехала, он и голову опустил. А раньше он все с ней был и в ванне с ней вместе купался. Лапы-то у него передние и отмокли. А вот здесь в брюхе у него веретено. Им Наташа уколется, когда ей будет шестнадцать лет, и заснет на три года».
Детские игрушки – это древнейшие боги человечества.
Рукой первобытного дикаря были они вырезаны из обрубка дерева. Воцарились олимпийские боги, но они остались жить около человеческого очага и стали домашними ларами и пенатами.
Когда же пришло христианство и олимпийцы обратились в демонов, а античные боги второго порядка перешли в католических святых, то эти древнейшие божества, прижившиеся около человеческого очага подобно домашним животным – кошкам и собакам, остались по-прежнему на своих местах и стали игрушками для детей. Для взрослых это кусочки раскрашенного дерева или клубки зашитых тряпок, хранящие слабое символическое подобие человеческого лика или звериной морды, но для детей они сохранили всю свою божественную силу творчества и власти, и как только наступает таинство игры, они, как древле, творят марева и иллюзии, охватывающие душу ребенка, но недоступные оку взрослого человека.
Игрушки до сих пор остались богами домашнего очага; нет очага в том доме, где не видно детских игрушек, этих истинных пенатов-покровителей.
У домашнего очага Ремизова эти грубо сделанные игрушки: глиняные курицы, войлочные зайцы, деревянные медведи и картонные мыши, действительно остаются богами, сохранившими свою древнюю власть над миром явлений, и от них возникают его художественные произведения.
«Идешь по улице и видишь: мужик шерстяных зайцев по гривеннику продает. Купишь этого зайца, а он тебе про себя таку-ую историю расскажет».
Безжалостно должна была жизнь преследовать человека для того, чтобы его заставить искать покрова и защиты у этих древних загнанных богов, которые в благодарность открыли ему так много первозданных мифов и первобытных тайн, скрытых в человеческом слове. И сам Ремизов напоминает всем существом своим такого загнанного, униженного бога, ставшего детской игрушкой. Трагически звучит его посвящение «Посолони», «Наташе»:
Засни, моя девочка милая!В лес дремучий по камушкам мальчика-с-пальчика,Накрепко за руки взявшись и птичек пугая,Уйдем мы отсюда, уйдем навсегда……Не мороз – это солнышко едет по зорям шелковым,Скрипят его золотые большие колеса……Мимо на ступе промчится косматая ведьма,Мимо мышиные крылья просвищут змия с огненнойпастью,Мимо за медом-малиной мишка пройдет косолапый…Они не такие…Не тронут…После старых реальных романов Ремизова, этих невыразимо мучительных издевательств над человеческой душой в «Пруде», «Часах», «Серебряных ложках», сказочная книга «Посолонь» со всеми ее чудовищами кажется отрадным отдохновением. «Они не такие, не тронут».
Для того, чтобы понять и оценить сказочную фауну «Посолони», необходимо дойти до истока каждого из мифов, собранных там. Надо познать первобытную реальность каждого из ее персонажей.
Но никто не сможет объяснить их лучше, чем сам Ремизов.
Что такое Калечина-Малечина?
«Калечина-Малечина это такая игра детская. Знаете – так перед вечером останешься один на дворе. А другие дети убежали. Смотришь, а из-под плетня пыльная палочка торчит. А это не палочка, а Калечины-Малечины нога. У ней одна нога деревянная и рука. Возьмешь ее на палец и спрашиваешь: „Калечина-Малечина, сколько часов до вечера?“ А сам на одной ноге прыгаешь и считаешь. И никогда больше шести не сочтешь. Тут она с пальца спрыгнет и юркнет снова в плетень».
Из этого истока создалась поэма о Калечине-Малечине:
Курица со двора…Калечина в ворота!Заберется Малечина в гибкий плетень,Тоненько комариком песню заведет,Ждет:Не покличет ли кто Калечины погадать о вечере?У Калечины одна деревянная нога,У Малечины одна деревянная рука,У Калечины-Малечины один глаз –Маленький, да удаленький.Калечина-Малечина,Сколько часов до вечера?Скок Калечина-Малечина с плетня,Подберется вся – прыг-прыг-прыг –Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь…Да юрк в плетень. Пригорюнится.Тоненько комариком песенку ведет,Ждет:Не покличет ли кто Калечины погадать о вечере?У Калечины семь братов –У Малечины семь ветров,А восьмой-неродной – вихорь витной –Миленький, да постыленький.Калечина-Малечина,Сколько часов до вечера?Вечером врывается, крутит вихрь в лесу,Вечером Калечине весело в виру.Ночка по небу лучинки зажжет,Темная, темную нитку прядет…Курица в ворота,Калечина со двора.(«Курица важная птица. Видали вы, как курица вечером домой возвращается и с какой важностью сквозь ворота проходит?»)
«Чучело-Чумичело? А это он в печных трубах живет. Отдушник раскроешь, а оно оттуда вдруг и вывалится. Длинное, длинное. А головы нет. Потеряло… А шею себе мышиною мазью мазало. Так у него на месте головы маленькая мышиная головка выросла и глазки мышиные».
В «Купальских огнях» развертывается целый шабаш этих стихийных духов.
«Дикая кошка – желтая иволга – унесла на клюве вечер за шумучий бор, там разорила гнездо соловью, села ночевать под черной смородиной»…
…Криксы-Вараксы скакали из-за крутых гор, лезли к попу в огород, оттяпали хвост попову кобелю, затесались в малинник, там подпалили хвост, игрались хвостом…
…Выползала из-под дуба-сороковца, из-под ярого руна сама змея Скарапея, переваливаясь, поползла на своих гусиных лапах, лютые все двенадцать голов – пухотные, рвотные, блевотные, тошнотные, волдырные и рябые катились месяцем. Окликнула, созвала Скарапея змей, змеенышей, и они, домовые, полевые, луговые, лозовые, подтынные, подрубежные – с подкалинового пня приползли из своих нор.