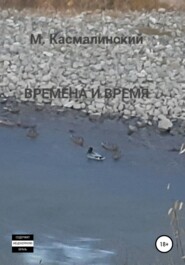По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путь с войны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– На, бери. Выебнешься дома, какие бабы в Германии.
– Может это важная карточка. Показать бы кому, – сказал Ырысту. – Тут с оборота написано что-то.
– Да что там написано? – Кириллов перевернул снимок. – Либер-мибер, абзац цузамен и цифры с кружочком. Температура. Девка болезная была. Да бери, тут еще одна осталась.
Прикоснувшись к фотографии, Бардин вдруг замер. Предвидение, предчувствие, предвестие, пред… пред… На долю секунды ему привиделся длинный коридор с вереницей звенящих зеркал, повернутых под углом. Миллиард отражений стремящихся в бесконечность. Увидеть такой коридор означало, что обнаружение фотокарточки создает цепочку ситуаций, ведущую к закономерной цели. К невидимой цели, но понятно одно: фотография извлечена, будущее сгрудилось в непредсказуемый лабиринт. Притом, значимый для многих людей. Ничего конкретного Ырысту не почувствовал, лишь переплетение путей, трогательный лабиринт предстоящих событий. Можно бродить во всех направлениях, делать настойчивый выбор, вовремя стоять или идти вдоль стенки, но наружу уже не выбраться.
Поколебавшись, Ырысту все-таки карточку взял; мельком взглянув, сунул в карман. Через окно в комнату заглянул белый кот. Он кивнул Ырысту, прошел по карнизу, из виду исчез, потом вновь появился. Кириллов рявкнул: «Брысь!». Кот то ли не услышал, то ли наплевал, он уперся носом в стекло и пренебрежительно наблюдал за Кирилловым, который продолжил обыск. Ничего ценного в комнате более не было. Напольные часы замерли на полшестого, они высотой в человеческий рост – не унести. Кириллову пришлось выломать механическую кукушку.
– В давние времена-а-у, – зевая, сказал Ырысту. – Жило одно дикое племя…
– Опять бардинские байки. Послухаем, – Кириллов всегда с интересом слушал народные легенды и самопальные сказки, которые нередко рассказывал Бардин.
– Долго, сотни, может, лет селились они по берегам гниющих озер, носили черные накидки, похожие, знаешь, на наши плащ-палатки. Себя, при этом, считали людьми, а других уже нет. Других они ставили в один ряд со зверями дикими, охотились на людей соседних племен, как на оленей. Человеческим мясом, понятно, питались. И ужасались все нравам этого племени, боялись набегов ихних, потому что воины они были бесстрашные и никого в живых не оставляли после себя. На середине гнилого озера жило божество этого племени в образе металлической бабы, которой приносили и возлагали дары: скарб награбленный, украшения, головы пустые, когда мозг уже выели. Ни один народ, живущий в этих землях, не мог дать отпор полночному племени. Тогда старейшины тех мест обратились к кочевникам, чтобы они помогли им сломить озерную нечисть. Кочевые сколоты были в это время молодым и храбрым народом, кибитки их объехали все степи и предгорья, имелись у них искусные оружейные мастера, ковавшие непревзойденные клинки. Откликнулись кочевники на зов старейшин. Наверное, и плату какую-то взяли. Одним словом, налетели со свистом и гиканьем, посекли озерных, разграбили капище. Мудрец сколотский говорил, что не надо брать ничего от людоедского идола, но его не послушали. Бабу переплавили, а то, что в хижинах нашли – утварь, ножи, ткани – тоже сгодилось кочевникам. Мудрец предупреждал, что можно заразиться, стать такими же. А вождь, возглавлявший налет, ответил, что он не может запретить брать добычу, да и как можно перенять людоедство? Стада наши бесчисленны, земля наша обильна, ведет нас на запад небесная кобылица. Так что унесли кочевники людоедское добро с собой.
– Ты это на что намекаешь? – Кириллов присел на край стола и, звонко щелкнув спичкой, закурил.
– И не сразу, а через поколение, наверное, но веселые всадники стали превращаться в мрачных грабителей. А внуки тех, кто был в отряде, разграбившем капище, взяли в обычай снимать скальпы с убитых врагов. И стали они себя считать самым великим на этой земле народом, самым непобедимым и избранным. Будто уже и не потомки богов, а сами как боги. И тогда разгневались небеса…
– Нет, ты на что намекаешь? На это? – Кириллов кивнул на тяжелый мешок, лежащий у ног. – Ты меня попрекаешь?! А то, что я на войне этой проклятущей!.. Они, суки, вишь!.. – тихо, но яростно шипел он. – Линомуль! Кофе горькое, пианины. А мы когда будем жить по-людски? Ты, Ирис, сам дикий кочевник!
– Просто история, – примирительно сказал Ырысту.
– Не-ет! Ты меня говоришь в людоеды. Как бы я и не лучше немцев. Не лучше? Я к ним пришел? А ты знаешь, что я в гражданскую… Да что я? Я-то тогда уже отщепился. А тятька мой, – Кириллов резко перекрестился двумя пальцами. – Он в жизни не матюгнулся, не ударил никого. Оружия в руки нельзя даже. Охотничье только. У меня до седьмого колена все староверы-беспоповцы! Что, людоеды?
– Не кипятись ты. И не в упрек. И не тебе. Я знаю, какие староверы. Или у нас кержаков нету? Полная долина кержаков-то.
– А ты веру не трогай, – уже спокойно сказал Кириллов. – Это надо смотреть у кого железная баба бог. Уж у кого идолы, так у нас не идолы.
Замолчали. Ырысту достал папиросу, Кириллов бросил ему коробок. Бардин, прикурив, бросил обратно.
– Давят ваших? – спросил Ырысту.
Кириллов вздохнул, поднял мешок с пола на стол, выбросил в угол кукушку из часов.
– Я-то изгой с девятнадцатого года. Религиозный дезертир, так один умник назвал. Бес попутал с этим коммунизьмом. А община… В тайге они. Был я в том скиту, да не пустили. Эх, язви вас в душу! – тряхнул седой головой солдат. – Давят, говоришь? Я так думаю, тех, кто верует в Бога Христа, что даже оружия не признает, их и советская власть давит, и при царе гоняли. И будут. Всегдашнее дело, Россия. А потому что Родину, бля, надо защищать. Надо!
Белый кот за окном кивнул в знак согласия и, взмахнув хвостом, спрыгнул с карниза.
В это время в квартиру вернулся Жорка, следом за ним вошел лейтенант Шубкин, плакатного вида командир: чеканный профиль, флотская выправка и подбородок сияет, отражается в сапогах. Только глаза неуверенно бегают по сторонам, что несколько портит образ.
При появлении офицера Ырысту изобразил попытку встать с кресла, но Шубкин махнул рукой в жесте: «сиди».
Кириллов передал лейтенанту найденные бумаги, Шубкин принялся читать, близоруко щурясь. А Жорка вприпрыжку встал у стены, поднял жестяную кукушку, стал вертеть ее в руках.
– Я, откровенно говоря, немецким разговорным слабо владею, – произнес Шубкин, шелестя листами. – Но можно сделать вывод о личной переписке. М-м, если не успеешь, милый Йохан, это… ценность для русских, – он убрал бумаги. – Разберемся. Теперь! – Шубкин откашлялся. – Солдаты, друзья. Вот и настал тот день, когда наши доблестные войска добивают фашистскую гадину в его логове. И наше подразделение вносит свою посильную лепту. Вы, товарищи Кириллов, Бардин, Моисеев, отправляетесь в распоряжение старшины Мечникова. Взвод в настоящее время находится дальше по улице в одном из домов, вы увидите по флагу на крыше.
– Героическому флагу нашей доблестной армии, – вполголоса сказал Ырысту.
– Нашего ураганного взвода, – шепотом добавил Жорка.
Шубкин, услышав, нахмурился, шмыгнул носом, покачал головой.
– Что вы за народ такой? – всхлипнул лейтенант. – Мы проживаем великие дни, Победа, без всякого сомнения, ожидается в ближайшее время. Это повод для ёрничества?
– Это со страху, товарищ лейтенант, – сказал Кириллов. – Со страху. Обидно будет, если убьют или ранят, когда считанные дни до конца.
– Согласен. И поэтому не приказываю, а советую: на рожон не лезть, по мере возможности беречь себя и товарищей. И сделать все невозможное для выполнения поставленной задачи. А задача будет поставлена. И должна быть выполнена. Отправляйтесь. Я остальных забираю и туда же. Бардин, Кириллов, вы-пол-няй-те!
– А я? – подал голос Жорка.
– Само собой. Ты за старшего. Шучу, – Шубкин поежился будто от холода. – Шучу я так.
***
Осторожно озираясь, трое бойцов шли по средневековой улице маленького немецкого городка. Хрустел стеклянный мусор под ногами. Аккуратные дома зарылись в тротуары. Жорка, наклоняясь, заглядывал в окна, Кириллов водил дулом автомата по сторонам, Бардин отслеживал крыши. Было безлюдно, дробь перестрелок еле слышна.
– Может нас направят все-таки до Берлина, – сказал Жорка. – Чего мы тут кругами воюем? А я б там расписался на ставке Гитлера, мол, Георгий Моисеев был тут и все такое.
– Может, и направят, – ответил Ырысту, впрочем, без энтузиазма. К таким тщеславным жестам он относился равнодушно. Он, даже получая очередную награду, испытывал скорее недоумение, чем радость. А наград, кстати, было немало. Всю грудину можно увесить.
– А как ты думаешь, товарищ Бардин, – спросил Жорка. – Наш лейтенант и после войны будет, как мудак, лозунгами разговаривать.
Ырысту пожал плечами, а отозвался Кириллов:
– Будет. Я таких знаю. Стакан водки не выпьют по-человечески, а сперва под видом тоста политинформацию втюхивают: социализьм, пятилетка… Еще бывает, что такой тип на бабу полезет, и р-раз, а не получается. Тогда он этому своему и командует: «Именем революции встать!», – Кириллов ухмыльнулся, а Жорка заржал. – Говорят, помогает.
– Надо взять на вооружение, – сказал Ырысту.
– Рано тебе, как мы знаем, – с ехидством сказал Кириллов. – А мы видали. И слыхали, пол-Европы это самое. Так что не прибедняйся. А что до лейтенанта, то не надо осуждать, ему с такой биографией, это да. Тут знаешь ли…
– Еще и ублюдский взвод, – добавил Жорка.
– Во-во.
Взвод лейтенанта Шубкина нельзя назвать особо героическим и каким-то косячно провальным тоже не назвать. Воевали как все, ничем не выделяясь. Но было известно, как один ответственный штабной работник, изучив обстановку в части, вынес в отношении Шубкина железный вердикт: «Ублюдский взвод. Ни одного коммуниста». Солдаты только посмеялись, лейтенанта же такое положение не устраивало, он периодически сватал личный состав вступить в партию или хотя бы в кандидаты в партию (в жоркином случае – в комсомол), но в этом не преуспел.
Кириллов любил рассказывать, как ему еще в сорок втором предлагали подать заявление в ВКП (б). Очень настойчиво предлагали, план у них какой-то. Так что, когда политрук (политрук или замполит, кто их разберет алырников) очередной раз принялся намекать на идейную составляющую, красноармеец Кириллов вылупил глаза и, истово крестясь, затянул «Богородице Дево, радуйся». Вопрос, естественно, был закрыт.
Ырысту Бардин еще до войны, в рецидиве мещанского карьеризма, намеревался пополнить ряды коммунистической организации. Уже и рекомендация была и предварительное одобрение. Потом передумал. Настали странные времена: не умеющий читать и писать плотник Амаду Мегедеков оказался троцкистом, а дядя Саша Алчубаев, шестьдесят лет своей жизни не покидавший Мажерок, был уличен как японский шпион. И это только за неделю. Дальше – больше. Тогда Ырысту собрал семью и уехал в глушь и вверх, в родную горную долину. Пошла прахом предыдущая жизнь: интернат, институт, работа. А планы крайкома о создании ойротской национальной интеллигенции – да идите вы все! Других найдете дураков. Ырысту разочаровался. И как всякий потерявшийся в жизни человек, захотел вернуться к истокам. И не только в переносном смысле – здесь, в горах, начинали свой путь многие речки. Кажется, солнце тоже рождается здесь. Хорошо! Спокойно. А трудно – от слова «труд». Пусть сыновья- погодки привыкают. Это правильно. Плохо то, что книг не достать, пристрастился Бардин к чтению давно. И от еды традиционной Ырысту уже отвык. Он и так совершенно обрусел за последние пятнадцать лет: в поведении, в быту, в привычках, но более всего – в кулинарном смысле. А борщ варить супруга не умела. Но в остальном Ырысту был счастлив, что покинул город. Все – таки Алтай – лучшее место под высоким синим небом. Тому свидетели Сокол, Кедр и Олень.
– Никогда не женюсь, – сказал Жорка, поддевая ногой кусок керамической плитки. – Война сейчас кончится, в мореходку поступлю.
– Ну и балбес, – сделал вывод Кириллов.
– Три раза женишься, – сказал Ырысту.
– Вот спасибо, товарищ колдун, – обиделся Жорка. – Я ж просил мне не предсказывать. Три раза! Разводиться так-то денег стоит. Налоги пошлина, штраф, немалых денег.